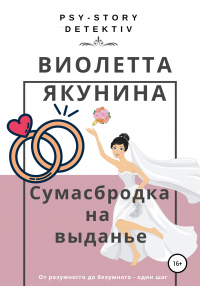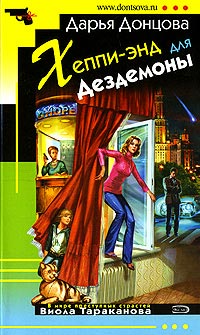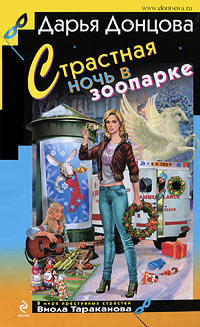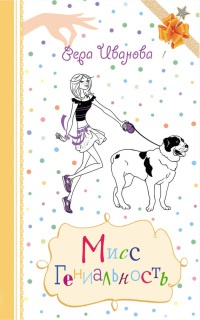Книга Лондон бульвар - Кен Бруен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сказал мне:
— И жив был пальчик, да отписался…
Я сказал:
— Ты больной ублюдок.
Начал восстанавливать отношения с Эшлинг. Она сначала возражала, заставила меня поволноваться, потом согласилась. Мы встретились в пабе «Солнце и блеск» в Портобелло… Я купил новые ботинки. «Джи Пи Тод'з», клевая вещь. Стоят, поганцы, дорого, но ноги ой как благодарны.
Ботинки были желто-коричневые, я надел их с гэповскими брюками цвета хаки, кремовым свитером и пиджаком Гуччи. Выглядел вполне удобоваримо.
На Эшлинг было убойное черное платье. Я сказал:
— Платье убойное.
Она улыбнулась. Забрезжила надежда. Она сказала:
— Ты тоже неплохо выглядишь.
— Нравятся мои ботинки?
— «Балли»?
— Нет.
— Подделка?
— Ну это вряд ли.
— Ох, извини, я совсем забыла, что ты мужчина опытный и искушенный.
— Это не из «Симпатии к дьяволу»?
— Не знаю.
— Наверное, «Роллинги» эту вещь еще до твоего рождения спели.
Она проигнорировала мое замечание, спросила:
— Куда пойдем?
Я говорю:
— Хочешь поужинать?
— Я хочу тебя, и сильнее только ирландская печаль.
Такая штука с этими ирландцами: они всегда готовы с тобой поговорить, и говорят они неплохо. Но о чем они, черт возьми, говорят?
Никто не знает.
Эшлинг между тем продолжала:
— Есть такая мысль: давай возьмем видеокассету напрокат, закажем пиццу, и ты узнаешь, что скрывается под убойным платьем?
— А ничего, если я захочу сделать это прямо здесь, на улице?
Мы пошли к ней. И с той минуты, как мы вошли, Эшлинг все время находилась на мне.
Ее бедра двигались, как жернова, а рот связывал надеждой. Когда мы закончили, я выдохнул:
— А где же пицца?
Позже мы посмотрели фильм «Три цвета: Красный». Не могу сказать, что я там все понял. Эшлинг весь фильм проплакала. А долбаные субтитры я ненавижу. Она спросила:
— Тебе понравилось?
— Понравилось.
— Честно скажи, я не обижусь.
Потом, когда перебрался наверх, я сказал:
— Мне нравятся французские фильмы, есть в них что-то такое… je ne sais quoi.[39]
Она это восприняла
по-своему
как ей хотелось…
и отработала по-французски.
Сказала:
— О, я так счастлива, Митч, ты и по-французски говоришь.
Эту фразу я подхватил в тюряге. Один серийный насильник обычно орал ее, когда за ним приходили наши тюремные блюстители нравственности.
А случалось это раза по два в неделю. Я сказал:
— Конечно.
Она села, простыня упала, грудь обнажилась. О черт, я готов был вообще по-русски заговорить. Эшлинг сказала:
— Так здорово, это только часть трилогии. Мы еще посмотрим «Синий» и «Белый».
Я кивнул, полез за своим табачком и начал скручивать сигаретку. Эшлинг с интересом наблюдала. Я спросил:
— Хочешь?
— Ты мой наркотик.
Ух!
Наконец взялись за пиццу, на скорую руку разогретую в микроволновке. Когда она, кусок за куском, исчезла у меня во рту, Эшлинг спросила:
— Все аппетиты удовлетворены?
Я кивнул.
Тихо играло радио. Пели хорошие ребята.
Грэм Парсонс.
«Ковбой Джанкиз».
До того момента, пока Фил Коллинз не начал выть «Истинные цвета».
Эшлинг спросила:
— О чем ты думаешь?
Я знал ответ, сказал:
— О тебе, дорогая.
Она засмеялась, я добавил:
— И лампу включать не нужно, твои глаза любую комнату осветят.
— Дерьмовый разговор.
Тут радио вмешалось с песней Айрис Демент «Сегодня год, как умер мой отец».
Эшлинг заплакала. Я подвинулся, чтобы обнять ее, она отстранилась. И молчала до последней западающей в память ноты. Потом сказала:
— Мой отец был алкоголиком. Брат рассказывал, что в детстве я жила как олень под фарами мчащегося автомобиля. Я много лет билась, чтобы хоть вытянуть его из омута на мелкое место. И когда он умер, задыхаясь от выпитого, я была счастлива. В больнице они дали мне его личные вещи… Знаешь, что это было?
Я понятия не имел, сказал:
— Понятия не имею.
— Бойскаутский ремень и четки.
Она взяла корочку от пиццы, бросила, потом сказала:
— Четки я в реку выкинула.
— А ремень оставила?
— Это было всё его наследие.
— Черт, у тебя острый язык, ты об этом знаешь?
Она улыбнулась, спросила:
— Хочешь услышать глупость?
— Что?
— Натуральную глупость.
— Ну…
— Все говорят сегодня о Новой Женщине. Которая не хочет ничего традиционного. Только мужа, дом и детей.
Я промолчал. Потянулся за выпивкой. Эшлинг сказала:
— Я хочу тебя.
Склонилась надо мной, оседлала и занялась любовью.
Я не возражал. После окончания сказала:
— Ну вот, разве я не была бы дурой, если бы этого не сделала?
— Точно была бы.
Я себя дураком не чувствовал. Весь следующий день я провел с ней. Сходили на рынок в Портобелло, посмеялись над барахлом, которое там продают. Съездили в Вест-Энд и сфотографировались в развлекательном центре Трокадеро. Странно, но фотка получилась хорошая. Эшлинг выглядела молодой и радостной, а я… я выглядел так, будто рад, что она именно такая. И я действительно был этому рад.
Когда я вернулся в Холланд-парк, часы били полночь. Свет в доме не горел. Я навестил актрису, прикоснулся рукой к ее щеке, она произнесла:
— М… м…
Но не проснулась.
Ни следа Джордана.
Пошел к себе, открыл пиво. На меня накатила тупая усталость, которая бывает только тогда, когда тебе хорошо. Я это даже не пытался понять, пока не утратил. Любил ли я Эшлинг? Абсолютно точно было одно: она заставляла меня ощущать себя тем человеком, каким я когда-то надеялся стать.