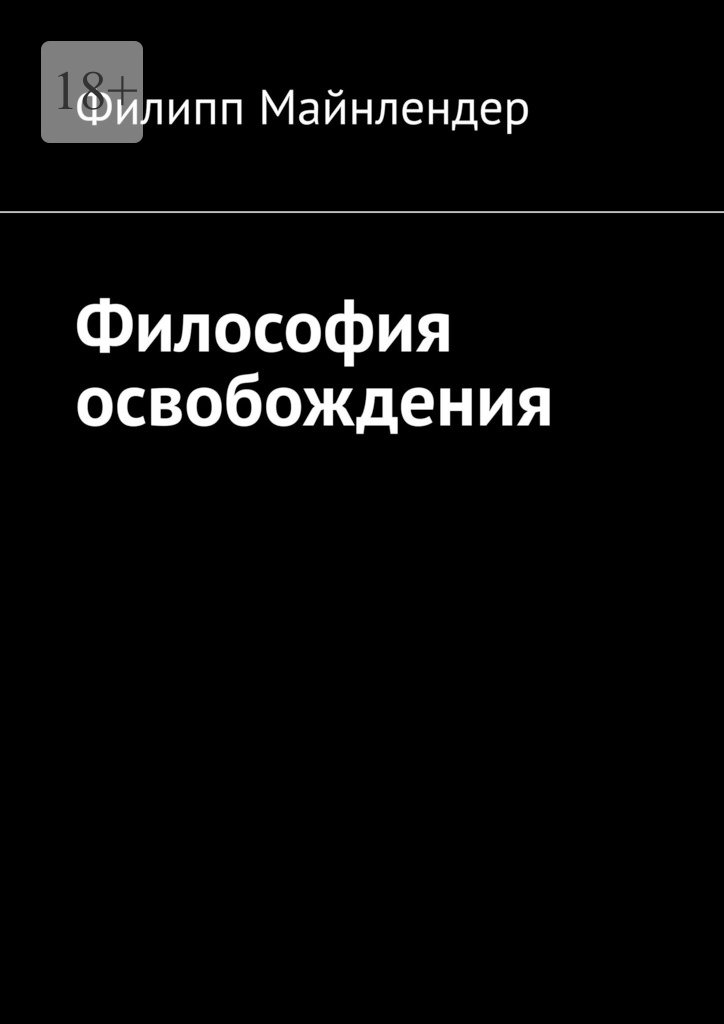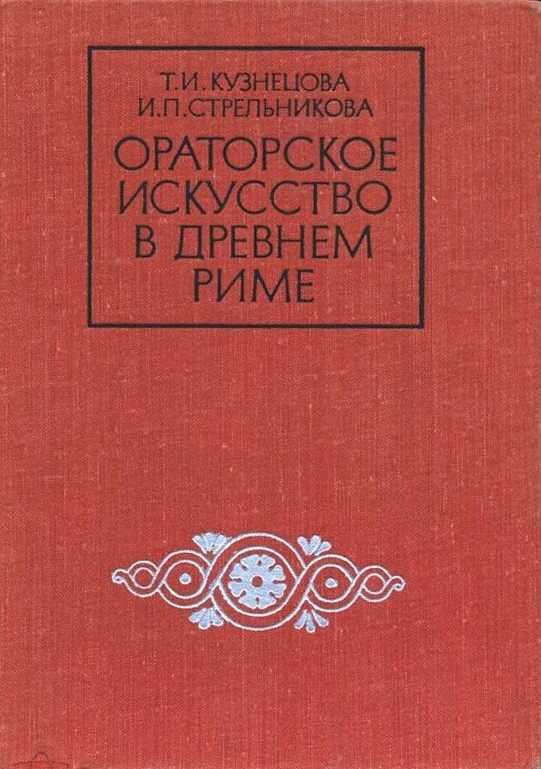Книга Ораторское искусство - Александр Викторович Марков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поскольку нам нравится видеть большое число предметов, нам хотелось бы расширить область нашего видения, побывать во многих местах, обежать большее пространство, наконец наша душа покидает свои границы, стремится, так сказать, расширить сферу своего присутствия; для нее большое наслаждение распространить свое видение вдаль. Но каким образом сделать это? В городах область нашего видения ограничена домами; в деревне на его пути тысяча препятствий: нам едва удается увидеть три или четыре дерева. Искусство приходит к нам на помощь, и мы обнаруживаем природу, которая прячется; мы любим искусство, мы любим его больше, чем природу, т. е. природу, скрытую от наших глаз. Однако когда нам встречается красивый ландшафт, когда наш взор может свободно видеть вдали луга, ручьи, холмы – всю эту местность, созданную как бы нарочно, он бывает очарован совсем по-иному, чем когда он видит насаженные нами сады, потому что природа не повторяется, в то время как произведения искусства всегда походят друг на друга. Именно по этой причине мы предпочитаем пейзаж живописца плану самого прекрасного сада в мире, ибо живопись воспроизводит природу лишь там, где она прекрасна, там, где взор наш может простираться вдаль на всей ее протяженности, там, где она разнообразна, там, где вид ее доставляет нам удовольствие[77].
Поэтому оратор не должен быть многословен, он должен быть краток, как пантомима, как реприза, как сценка. Лучшее ораторское искусство – не просто безыскусное и лаконичное, но превращающее эту безыскусную лаконичность в театр, разыгрывающий в нескольких словах целый сюжет. Монтескьё пестует уже новое, романное воображение, в котором происхождение, драма и трагедия героя могут быть указаны несколькими словами.
В отличие от старой риторики, где существеннее всего происхождение героя и его репутация и поэтому кратко ничего сказать нельзя, нужно подробно раскрывать заслуги и героизм каждого упоминаемого лица. Афоризмы допустимы только как иллюстрации. В новой риторике герой появляется как будто из ниоткуда и в полном вооружении талантов и способностей. Он – парвеню, новый человек, и поэтому можно сказать в нескольких словах о всей его судьбе. В ХХ веке так начал свою лекцию об Аристотеле философ Мартин Хайдеггер: «Аристотель родился, писал труды и умер. А теперь будем читать, что он написал». Но до Хайдеггера Монтескьё выбирал из античного исторического и риторического наследия то, что говорит о судьбе человека из ниоткуда двумя или тремя словами:
Таким бывает обычно воздействие великой идеи, когда какая-либо высказанная мысль выявляет большое число других мыслей и позволяет нам неожиданно обнаружить то, что мы могли надеяться узнать лишь в результате долгого чтения. Флор в немногих словах показывает нам все ошибки Ганнибала: «Когда он мог, – говорит он, – воспользоваться победой, он предпочел наслаждаться ее плодами»; cum victoria posset uti, frui maluit. Он дает нам представление обо всей македонской войне, когда говорит: «Войти туда значило победить»; interesse victoria fuit. Он показывает нам целый спектакль из жизни Сципиона, когда говорит о его молодости: «Здесь растет Сципион на погибель Африки», hic erit Scipio qui in exitium Africa crescit. Вам кажется, что вы видите ребенка, который растет и превращается в гиганта[78].
Итак, романное воображение требует достраивать судьбы людей по нескольким словам. При этом разнообразие – это всегда приключение. В отличие от ренессансного идеала разнообразия (varietà), подразумевавшего простую творческую избыточность, усовершенствованный метод проб и ошибок[79], новый просвещенный вкус требует разнообразия только от действительных или мысленных путешествий. Они позволяют постепенно познать человеческие страсти, а значит, и разработать правильную политику, усмиряющую страсти и заставляющую всех людей служить общему благу:
Нам нравятся некоторые повествования благодаря разнообразию описываемых в них перипетий, романы – разнообразием чудес, театральные пьесы – разнообразием страстей; именно поэтому люди, умеющие обучать, меняют, как только могут, однообразный тон своих наставлений. <…> Итак, вещи, которые мы рассматриваем постепенно, должны обладать разнообразием, ибо душа созерцает их без всякого труда. И, напротив, вещи, которые охватываются одним взглядом, должны быть симметричны. Поскольку мы сразу охватываем взглядом фасад зданий, их тыльную часть, храм, их делают симметричными, что приятно душе благодаря той легкости, с какой она воспринимает весь предмет в целом[80].
Разнообразие, согласно Монтескьё, требуется и нашей чувственной области. Он приводит аргумент физиологический: необходимо, чтобы сила растекалась по всему телу. Мы бы, переводя его физиологическую терминологию на более привычный нам язык понятий, сказали, что организм нуждается в зарядке, развивающей все группы мышц, и только тогда наше самочувствие более чем удовлетворительно:
Если познающая часть души любит разнообразие, то чувствующая ее часть не меньше стремится к нему, ибо душа не может долго выносить одного и того же состояния, поскольку она связана с телом, которое не может этого терпеть; дабы возбудить нашу душу, животные ду́хи должны течь по нервам. Однако здесь есть два обстоятельства: усталость в нервах и остановка животных духов, которые не текут больше или исчезают оттуда, где они прежде текли[81].
Как и во время физкультуры удовольствие дают не столько сами упражнения, довольно рутинные, сколько особое чувство легкости тела после упражнений, так и в риторике важнее всего эта особая перемена в конце речи, что мы вдруг на все смотрим яснее. Оратор именно на это должен обращать внимание, он как бы сам должен удивляться, возмущаться, недоумевать вместе со слушателем в конце речи. Только тогда речь достигнет адресата: слушатель воспримет мнение оратора как свое.
Здесь в чем-то Монтескьё возвращается к истокам риторики, к Горгию, который учил, что незаметное слово, но отвечающее скрытым желаниям слушателя, оказывается и самым сильным. Но одновременно философ предвосхищает психоанализ ХХ века, в котором речь оказывается не только каналом передачи информации, но и раскрытием скрытых желаний. Монтескьё вспоминает историка Светония как образцового ритора:
́
Светоний описывает преступления Нерона с удивляющим нас хладнокровием, почти заставляя нас поверить, что он совсем не испытывает ужаса перед тем, что он