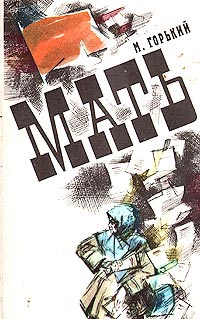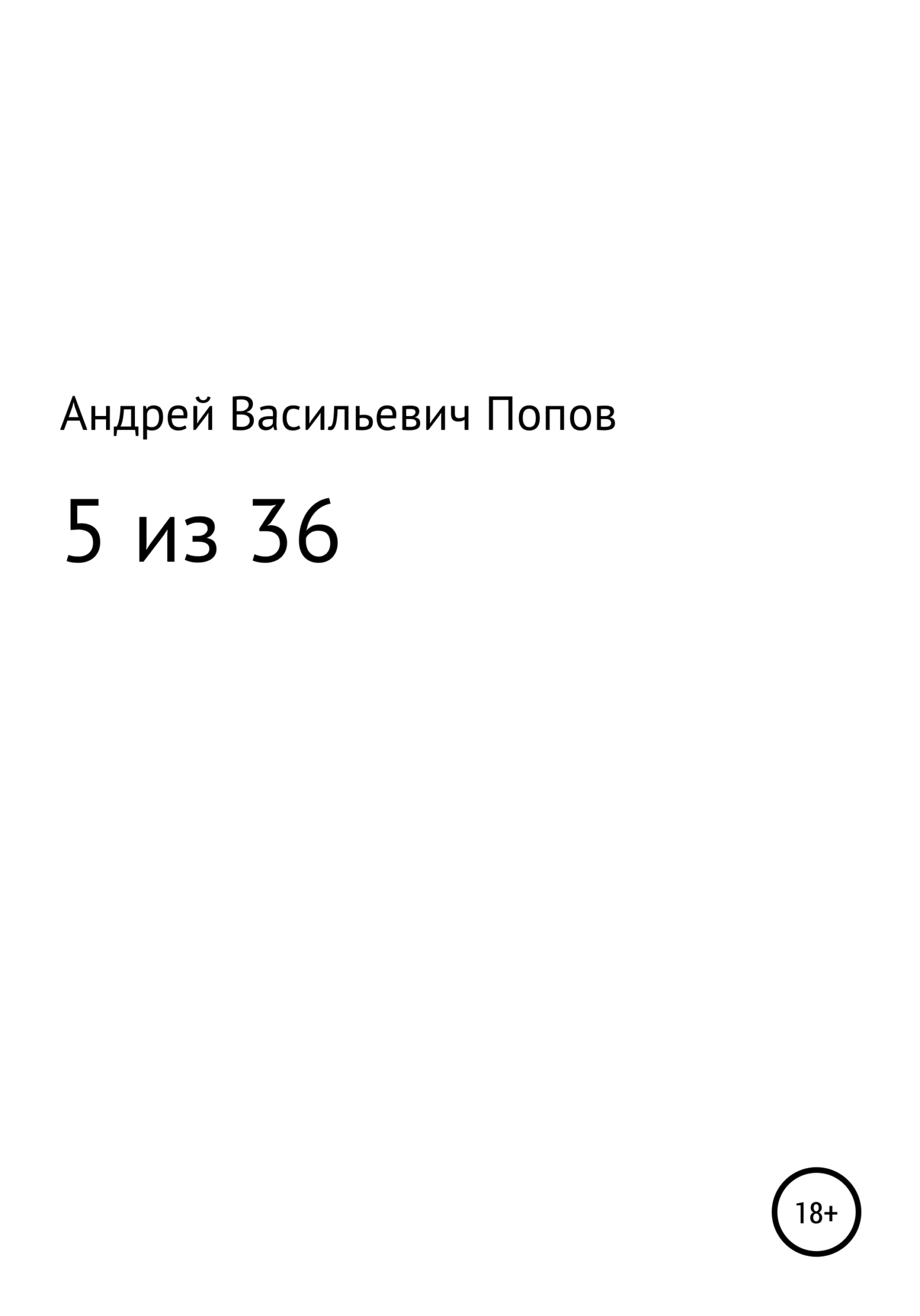Книга Мещанка - Николай Васильевич Серов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Так шла жизнь дома.
А работа требовала своего.
— Я сегодня задержусь, Наденька, — как то утром сказал он.
— Зачем же? — недовольно спросила она.
— Надо мне. Дел много.
— Ведь он же не куда-нибудь идет, — вмешалась мать. — Ведь с него же спрашивается.
— А вас, по-моему, не спрашивают, — обернулась Надя, и лицо ее стало неприятно злым. — Всегда вы суетесь!
Павел Васильевич увидел, как дрогнули руки матери, и в глазах ее, обращенных к нему, сверкнули слезы. Ему стало не по себе.
— Что это такое, Надя? — спросил он удивленно и недовольно.
Она вспыхнула и выбежала в другую комнату. Павел Васильевич пошел за ней, чтобы поговорить. Но она не стала его слушать и сквозь слезы закричала:
— Изводите! Вы с матушкой своей мастера на это, вам это пристало, вы умеете… — и резко отвернулась от него.
Он вышел, хлопнув дверью. Настроение было отвратительным. Проглядел он, как в дом вошла вражда. Мать поддерживала его и ничего ведь особенного не сказала сейчас. Как рассудить их, какими мерами восстановить привычный покой в семье? И почему они не уживаются? Где причина этой вражды? Как зло, с какой ненавистью глядели на мать Надины глаза, как неприятно было ее лицо! Такой он никогда еще не видел ее.
Вечером он пришел поздно. Надя плакала, винила его, бросала в лицо обидные и неоправданные слова о том, что ему наплевать на нее, дорога мать, что она знала, что так будет, и что так жить невыносимо.
Он уговаривал, но чувствовал, что цели не достиг и мир не восстановится.
С этого дня Павел Васильевич стал внимательно следить, что делается в семье. Однажды из коридора он увидел, как мать хотела помочь Наде мыть посуду.
— Без вас сделается, — тихо, видно, чтобы он не услышал, но от того не менее неприязненно сказала Надя и выхватила у нее из рук кастрюлю. Мать постояла с опущенными руками, смахнула слезу и пошла в комнату. Заметив его, она подняла голову, и он прочитал в ее глазах: «Вот, полюбуйся, сынок, как живу».
И снова был неприятный разговор, снова слезы.
«Может, лучше не вмешиваться во все это? — думал он. — Сами разберутся, а то я только масла в огонь подливаю. И у всех ведь не всё и не всегда гладко. Недаром говорят: «Не бывает дому без содому». Но этот его расчет на «стерпится — слюбится» не оправдался. Вскоре вечером они сидели с Надей, проводив очередных ее знакомых, после которых остались клубы дыма, пустые рюмки и грязные тарелки. Мать убирала со стола.
— Как у нас все-таки тесно, — заметила Надя, — человека порядочного принять негде. Мне уже перед людьми неудобно. Директор, говорят, такого завода, а так живет.
Разговор этот она заводила не впервые. Павел Васильевич отмалчивался. Смолчал и сейчас. Но она, улыбнувшись, погрозила ему пальцем:
— Говори, молчун, не отступлюсь, смотри…
— Господи, да куда нам еще, — заметила мать. — Только обиход лишний. А люди что скажут? На него ведь смотрят. Учатся у него молодые-то.
— Ну, это невыносимо! — вскочив, крикнула Надя. — Невыносимо. Ну что вам надо? Сидите и молчите. Сыты, в тепле. Зачем вам портить мне и сыну жизнь?
— Ну, это, матушка, еще неизвестно, кто кому жизнь-то портит. А мне он сын, и мне не всё равно. Он у меня вот где, — и дряблой старческой рукой мать показала на сердце, — а у тебя тут не знаю еще что. Люди так ли живут, и не жалуются. Спроси его, как он жил. А тут мало квартиры в две комнаты, подавай четыре…
— Мама, — тихо проговорил Павел Васильевич, — не надо…
Она сразу смолкла и вышла.
— Вот видишь теперь, — заговорила Надя. — Всё ей надо, везде она суется!
— Перестань, Надя, — попросил он. — Всё я вижу и всё я понимаю, не вижу и не чувствую только покоя.
— А мне, думаешь, это приятно, думаешь, хорошо?
— Надя, помолчи, — снова попросил он. Встал и, ломая спички, долго прикуривал папиросу.
«А что у них делается без меня!» — прикурив от докуренной папиросы другую и роняя пепел прямо на пол, думал он, шагая по комнате. И было тяжело, горько, неприятно.
На третий день, когда Надя вышла куда-то, мать подошла к нему и села рядом на диван.
— Мешаю я вам, сынок, — просто, без обиды сказала она.
— Ты всегда понимала меня, мама, — с болью в голосе заговорил он. — Мне и так нелегко все это, зачем же ты еще обижаешь меня? Не надо, мама.
— Жалеючи тебя и говорю. Ты ведь один у меня. Один! Уеду я, сынок… — она глотнула слезу, — не сжиться мне с ней. Нет. И тебе не разделить нас. Какая же жизнь тебе будет, а? Да и мне тоже…
Затрепетали у него губы, тугой комок подступил к горлу, и первый раз с того времени, как кончил он школу, увидела мать слезы в глазах сына. И у нее дрогнул голос:
— Разве оставила бы тебя! Господи! А ты успокойся. Слышишь… Успокойся… — и, как давно в детстве, прижала к себе его голову. — Разные мы с ней люди, по-разному жизнь видим. И ее ведь я не виню. Стара я, может, и не так делаю, а вдвоем у вас наладится жизнь. Вместе ведь, говорят, тесно, а врозь скучно. Забудется все, и родней, нас не будет. Приезжать буду…
— Другую квартиру возьму, живи отдельно, но будь со мной, мама, будет у тебя комната, уж если так не можешь.
— Нельзя так, сынок, нельзя! На тебя ведь люди смотрят. А чего они знают? Скажут: хорош, с матерью не ужился. Нет, это нельзя!
По-всякому просил и уговаривал ее Павел Васильевич, но мать не соглашалась. Жена не могла скрыть радости и была эти дни обходительно-ласкова с матерью и особенно ласкова с ним.
Но впервые ласки ее не утешали Павла Васильевича.
«Зачем она притворяется? Ведь рада же радехонька. Добивалась ведь этого. К чему разыгрывать неведение, непонимание, зачем эти слова притворного удивления?» И ощущение неудовольствия ею, обиды сильней и сильней входило в душу.
* * *
Мать уехала. Сколько лет с ней одной жил Павел Васильевич, и теперь у него будто вынули что из груди, и осталась там тоскливая пустота. Недели через две, сняв рубашку, он хотел взять свежую на привычном месте. В комоде чистой рубашки не было.
— Где мои рубашки, Надя? — спросил он.
— В ванной лежат. Я ведь тоже работаю. Да у тебя и эта