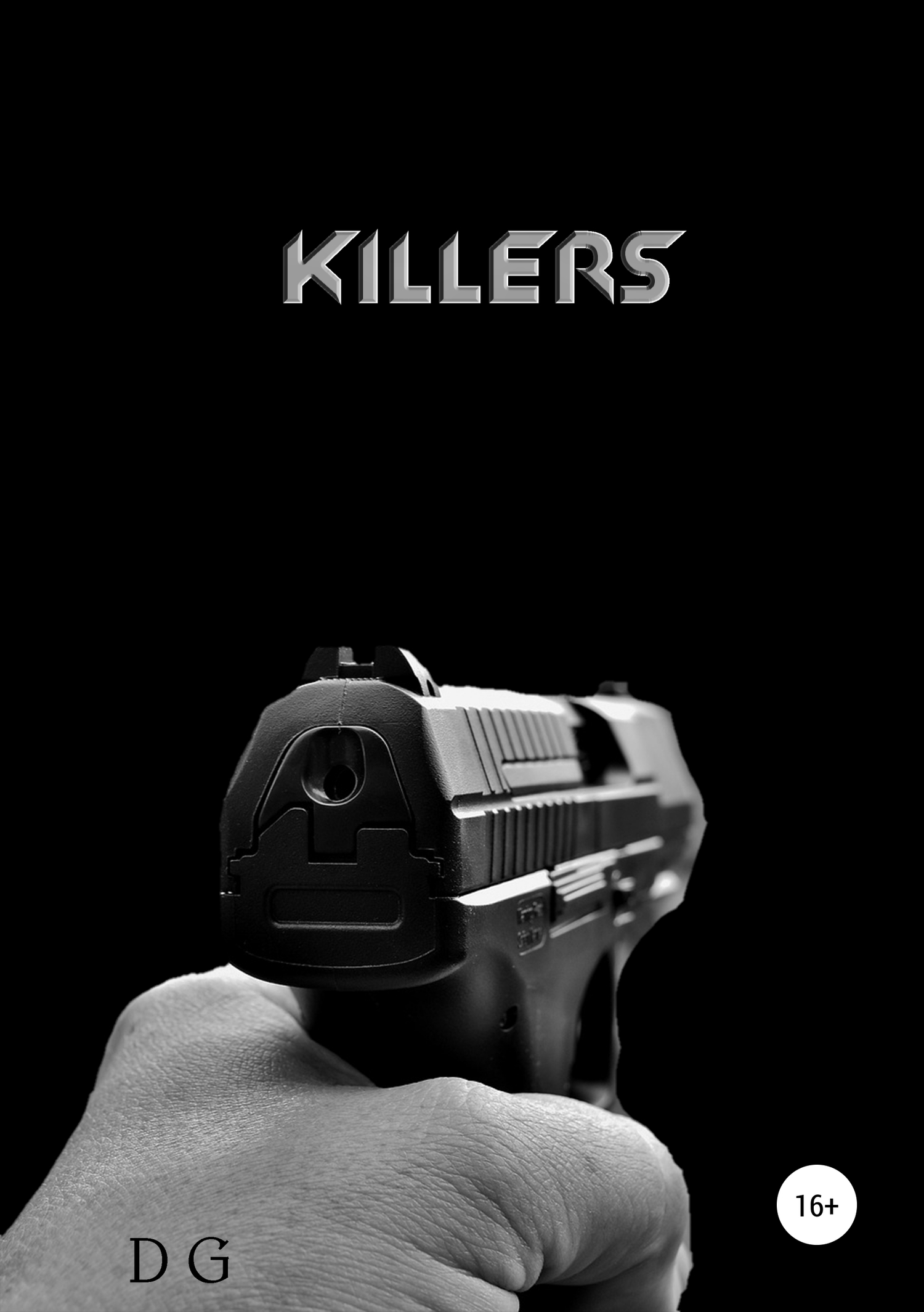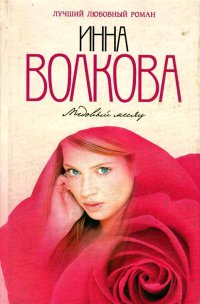Книга Соавторы - Светлана Васильевна Волкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И что-то щёлкнуло в Евгении Келдыше. Он вырезал мамин портрет, повесил на стенку и чуть ли не молиться на него стал. Когда протрезвел окончательно (а на это ушло не меньше недели), начал снова писать стихи, посвящая далёкой незнакомой Любочке, и поклялся найти её.
А ведь и нашёл. Точнее, нашли её его стихи: знакомый журналист помнил Евгения, напечатал их в газете и от себя приписал: «Помогите найти ЛЮБОВЬ».
Мама сама его разыскала. Опять же, через газету. Никто никогда не посвящал ей стихов, а тут некто, ей незнакомый, печатает в каждом номере по рифмованному признанию в любви. Она связалась с редакцией, так мол и так, я, кажется, тот самый предмет обожания поэта Келдыша, помогите музе найти творца. В редакции ей и «сдали» адрес Евгения. Телефона у него не было: давно отключили за неуплату.
И Люба Веригина, хотя смелой никогда не была, удивляясь самой себе, как в тот день, так и многие годы позже, собралась и поехала в выходной в неспокойный спальный район. Она с трудом отыскала его пятиэтажку и занюханный подъезд, потом долго звонила в обшарпанную дверь. Когда Евгений открыл – а к этому времени в нём было уже полбутылки водки, – Люба едва сдержалась, чтобы не сказать, мол, извините, ошиблась адресом. Но не сказала. Молча, не здороваясь, прошла в комнату, стряхнула рукавом крошки со стола, вытащила из сумки пачку чая и кулёк желейных конфет и уставилась на висевший на стене собственный газетный портрет. Выцветшая на солнце типографская краска, размытые контуры лица, серое платье и кровавая клякса раздавленного комара – как бурое ожерелье вокруг шеи.
Евгений так же молча подошёл к ней, бухнулся на колени, ткнулся лбом, как собака, в Любины ноги и загудел басом что-то. Она и не разобрала, что. Осторожно погладила его по голове и тихо сказала:
– Замуж не зови, не пойду. А чаю налей.
А он и чаю налил. И замуж позвал.
Чай Люба выпила. И замуж сходила.
Бабушка Оля мелко закашляла и спохватилась:
– Ой, да по межгороду тебе дорого-то, небось?
– Ничего, бабуль, не бери в голову. Что дальше-то было?
– Что дальше… А дальше ты родилась.
– Ну а почему… – Я и не думала, что мне так сложно будет это выговорить. – Почему отец развёлся с мамой?
– Да не он с ней, а она! – В бабушкин голос влилась досада. – Хороший мужик был. Но там одна история случилась. Ох, Маш, пусть лучше мать тебе о ней расскажет.
– Да не расскажет она, из неё клещами не вытащишь! Если уж за восемнадцать лет ничего не сказала. Ну ба!
Бабушка Оля тяжело выдохнула и отрывисто начала:
– Тебе было три года. Подозревали аутизм. К врачам водили. Деньжища отдали, а всё без толку. Ты странная была, не реагировала на игрушки, на голоса. Зависнешь взглядом на какой-то точке и сидишь так, открыв рот. Глотала предметы несъедобные, мелкие и блестящие – всё, что находила. Еду человеческую выплёвывала. Не плакала совсем, разве это нормально для ребёнка? Мы рукавички на тебя надевали: ты себя расцарапывала. А вот ещё: ночь, мать проснётся, глянет на твою кроватку, а ты сидишь, смотришь куда-то в угол и качаешься. Со страху рехнуться можно. Соседки говорили – бесноватый ребёнок. Мы и крестили тебя, конечно, и в церковь носили, и к знахаркам, прости господи. Не помогало. И одна врачиха сказала матери, ничего, мол, не поделаешь, дальше будет хуже. Лучше заранее об интернате позаботиться. Ну мать психанула, вылила всё на отца, что он пьяным тебя заделал и всё это последствия алкоголя. Ой, внучушка, прости!
Бабушка Оля замолчала, из трубки послышался надрывный кашель.
– Ба. Продолжай, пожалуйста. Я взрослая.
– Уверена?
– Абсолютно.
Она закряхтела совсем по-старчески:
– О-хо-хо, царица небесная! Он ходил чёрный от тоски, вину свою не прятал – за прошлое и за больного ребёночка. В общем, и на мне грех есть, прости дуру старую. Я подначивала её. А когда Любка второй раз залетела… Ой, что я такое говорю…
– Ба! – завопила я. – Договаривай уж!
– В общем, мамка твоя сделала аборт. Зачем второго увечного?.. Ну я поддерживала, думала ж, ты у нас с приветом. А ты выправилась, и ладненькая такая, и умненькая оказалась.
Бабушка Оля снова запричитала, и я отчётливо услышала, как она всхлипывает.
– Машунюшка, ты прости меня. Я ведь люблю тебя, деточка…
– Ба, так у меня мог быть братик?
– Ну, или сестра. Но да, теперь уж не замолишь.
– А отец?
– Так ушёл. Любка запретила к дому вашему даже приближаться. Говорит, чумной, мол, ты, Евгений, от тебя одни беды. Пропади навсегда.
– Так и сказала?
– Так и сказала.
– И он послушался? – Я чувствовала, как сердце за рёбрами ходит колесом.
– А что? Я его понимаю, Машунь. Ушёл, женился второй раз. Не мог простить матери твоей аборт. А то, что носа к тебе, дочке, не казал, так, может, и к лучшему? Дядя Паша вон тебе его заменил.
– Не заменил, – процедила я, стиснув зубы.
Бабушка Оля снова заохала, поминала и бога, и беса, и жизнь несчастную. Мы попрощались холодно – ледянее, чем обычно. Я прошла в ванную и посмотрела на себя в зеркало.
Я подумала, что ничего не знаю об отце. И ничего не знаю о матери, как и о бабушке Оле. Но, главное, я не знаю ничего о себе. Кто ты, Маша Келдыш? Кто? Кто? Чудом выживший полоумный ребёнок, которому грозил интернат?
Почему ты ничего не рассказывала мне, мама? О том, как мучилась со мной? И о том, как всё-таки никуда меня не сдала… О том, что ты набралась смелости и приехала в дом к человеку, который тебе посвящал стихи… О том, как ты любила отца. И о том, как так случилось, что я, твоя дочь, живу, думая о тебе как о недалёкой мещанке.
А отец? Влюбился по фотографии в маму. Загадал её, и она, мама, сбылась.
Не его ли ген во мне так ворочается? Мирон, мой дорогой Мирон, я тоже влюбилась, не зная и не видя тебя! Я не пишу стихов, но посвятила тебе свои тексты – и если они были неплохи, то только благодаря тебе. Многие бы сказали, что это сумасшествие. Многие, но только не мой отец. Он бы меня, наверное, понял.
Я набрала