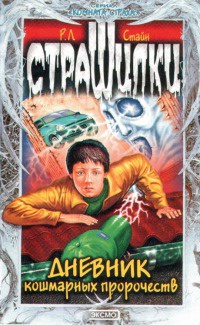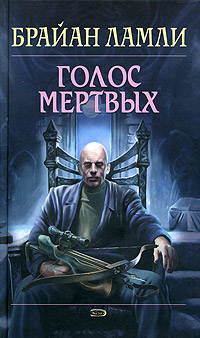Книга Остров Веры - Эдуард Сребницкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Обратиться за помощью к Сургону? Тем более, по его словам, они являются с Алексом братьями. Алекс усмехнулся про себя. Ну, или родственниками, поскольку оба, пусть и в разной степени, принадлежат к народу исседонов. Но тот же Сургон сказал, что история с бегством Бориса Холвишева из России, а значит, и записка деда, имеют отношение не к Боеру Холви, не к исседонам, а только к семье Холвишевых, и абсолютно необязательно интересы исседонов и Холвишевых должны совпадать. Ведь в противном случае дед оставил бы послание не потомкам, а своим соплеменникам.
С которыми, кстати, тоже много неясного. Они действительно существуют? И тогда насколько они многочисленны? Сургон сказал, не слишком. Но сколько это: единицы, десятки, а может быть, тысячи? И не менее важно, насколько они адекватны действительности? В двадцать первом веке несколько странно верить в духов и поддерживать связи с умершими предками. Конечно, Алекс тоже чувствовал связь с мамой, дедушками и бабушками, но это была материя столь тонкая, что не поддавалась рациональному объяснению, а тут о контактах с предками говорилось как о личной встрече, или телефонном разговоре: «поддерживаем связи».
Алекс при стороже турбазы не стал задавать Сургону подобных вопросов, но когда «Шевроле-Нива» отправилась в путь от Тургояка к Миассу, спросил и о духах, и о численности исседонов.
– Будь готов, что на все твои вопросы ответить я не смогу, – сказал ему Сургон. – Ответы на какие-то из них тебе знать пока рановато, а на какие-то и вовсе не положено. Но, разумеется, это не относится к вопросам миропонимания – тут никаких тайн нет: мы уверены в существовании и Всевышнего Бога, дающего жизнь, и Великих Духов, следящих за жизнью, и в невидимом бытии умерших предков.
– Мне кажется, такие представления больше подошли бы первобытным людям, – заметил Алекс.
– Тебе так кажется? – глянул на него Сургон. – Ну, во Всевышнего Бога, дающего жизнь, ты, как христианин, я полагаю, веришь.
– В Бога верю, а в остальное…
– А что же такое в христианстве ангелы и демоны, как не духи? Самые настоящие духи и есть. И подавляющее большинство других религий отводят в своих космогониях духам важное место. Что же касается связи с предками, то её пытаются установить и поддерживать многие люди, только не все в этом признаются, и далеко не у всех получается.
– У вас получается?
– Мы пытаемся. Но об этом как-нибудь после. Я за утренними сборами не сообщил тебе вот о чём, – переменил тему разговора Сургон. – Есть информация, имеющая отношение к поискам следов Бориса Холвишева.
– Да-да, – с готовностью отозвался Алекс.
– Похоже, поиски осложняются. По крайней мере, нам уже точно не помогут люди, проживающие в доме твоего деда. Вчера я заезжал туда, чтобы самостоятельно, уж не обессудь, поговорить с ними: мне было по пути, а наши с тобой совместные выезды бывают слишком хлопотны. Я заехал. Но когда подошёл к дому, то увидел возле него полицейскую машину.
При упоминании полицейской машины Алекс насторожился.
– Я ненавязчиво поспрашивал соседей, в чём дело, – продолжал Сургон. – И оказалось, что днём ранее хозяин дома был убит. Тот тип, который пугал нас вилами, помнишь?
– Убит?! – вырвалось у Алекса.
– Представь себе. Кто-то забрался к ним в дом с целью кражи. Хозяин с друзьями попытались задержать вора, но тот в возникшей драке свалил хозяина насмерть. Видимо, парень был не слабак, да и не робкого десятка.
– И что же полицейские?
– Надеются поймать убийцу. Говорят, и приметы его известны, и улик собрано достаточно.
Алекс, услышав новость, сидел как громом поражённый. Всё время, прошедшее после стычки в районе «Америка», он надеялся, что с хозяином дома – человеком, похожим на орангутанга – ничего серьёзного не произошло: упал, поднимется и пойдёт дальше. Но оказалось, что произошло, причём, самое худшее из того, что могло случиться: падение оказалось для хозяина смертельным, и виноват в этом был Алекс.
– Ты расстроился? – спросил Сургон. – Не стоит. По моему мнению, человек был дрянь, и ничего относительно твоего деда он нам бы не сказал.
«Как такое случилось, и что теперь делать?» Эти два вопроса, словно тиски, сжимали голову Алекса. С того момента, как Сургон сообщил ему, что хозяин бывшего дома Холвишевых умер от удара о землю, Алекс не мог думать ни о чём другом. Он не мог ни избавиться от обоих вопросов, ни отложить их на потом: они требовали немедленных ответов для того, чтобы ему продолжать ходить, дышать, мыслить – чтобы продолжать существовать.
Алекс чувствовал, что на него навалилось нечто ужасное, после чего возврата к прежнему уже не будет. Что те несколько минут схватки во дворе и каждая из минут в отдельности, дроблёная на секунды, теперь останутся навеки с ним, вновь и вновь возникая в памяти и обжигая её неотвратимой последовательностью событий. Что обожженная, сочащаяся сукровицей память, станет отравлять его мозг и душу, пока не превратит их во что-то другое, имеющее толстые стенки и изъеденную внутренность.
В иные же минуты Алекс со стыдом сознавал, что муки от содеянного уступают в его сердце место страхам о приближающемся возмездии. Поимка, суд за убийство, обвинение в шпионской деятельности, а затем долгие годы в ужасной русской тюрьме… Эти видения были столь явственны, словно являлись не плодом воображения, а непреложными фактами. Грядущее наказание представлялось Алексу не искупительным, а лишь карающим, и он всеми силами хотел его избежать.
И пожалуй, он мог бы ещё успеть: прямо в этот миг подняться с кровати, на которой лежал с ночи, не выходя на завтрак и обед, и быстро покинуть заброшенную лабораторию, город и стран: улететь в Соединённые Штаты, чтобы там в безопасности предаваться мукам совести о совершённом убийстве и тайной радости от сохраненной свободы. Вот так же, наверное, пятьдесят с лишним лет назад бежал с беременной женой через океан Борис Холвишев, и Алекс как никогда понимал и оправдывал сейчас деда. Алексу требовалось поступить тем же образом: улететь в Америку, затаиться и до конца дней ни с кем не обмолвиться о происшедшем в России. Пусть его тайна останется только с ним, пусть когда-нибудь с ним и исчезнет. А в данную минуту следовало подняться и бежать!
Но Алекс не делал этого. В глубине души он понимал, что бегство не принесёт ему облегчения, а если и принесёт, то только временное, поскольку явится главным поражением его жизни, отказом от всего, к чему он так стремился, отказом от того, что обещал выполнить себе и маме, отказом от себя. А как можно жить, потеряв себя? С вечными укорами совести, с сознанием роковой уступки малодушию? Нет, бежать было невозможно. Но нельзя было и оставаться.
Неразрешимость возникшего противоречия и необходимость сделать одинаково проигрышный выбор нависли над Алексом, будто занесённый меч, под сверкающим лезвием которого человек не силах находиться бесконечно долго. И Алекс чувствовал это всё сильней.