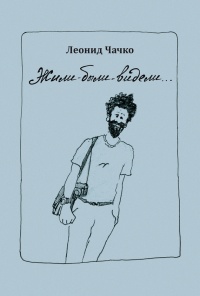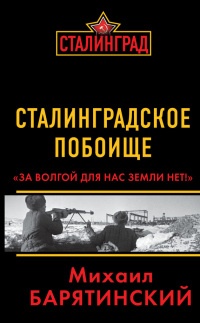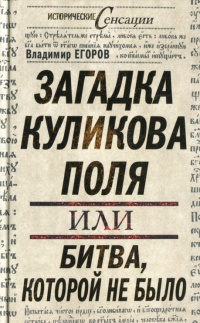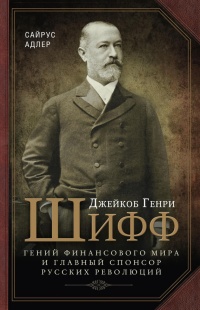Книга Рудник. Сибирские хроники - Мария Бушуева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ересь! – повторил он.
Но Юлия почувствовала, что край его души, озабоченной материальным и сугубо земным, явно задет и медленно начинает скептически колыхаться в такт словам Юлии. И отец Павел не знает, как избавиться от этого постыдного колыхания.
– Если верить в легенду, – продолжала Юлия упрямо, – надо будет принять, что познание всё от Змия – тогда и науки не должно быть, ведь наука пытается понять, кто мы такие – люди!
Юлия встретилась с дядей Павлом взглядом и поняла – он бессознательно уловил: девчонка догадалась, что ей удалось запустить в душу деда-ортодокса ветерок сомнения. И вознегодовал яростно.
– Лизавета! – Отец Павел захрустел костяшками пальцев, гневно глядя на мать Юлии, привычно кутавшуюся в шаль, чтобы спрятаться в невидимом коконе невосприятия.
– Даром слóва твоя дочь пошла в твоего брата Володимера, минусинского и красноярского златоуста, – дядя Павел родственнику-протоиерею несколько завидовал, – но в него же и червоточиной. Разве можно в своей церковной газете публиковать статьи, критикующие помазанника Божьего – царя! Или елеем поливать память смутителя Толстого иудаиста Бондарева! Вы – раскольники! Отступники! И прихожан Володимер прельщает хитроумным внушением, а не верой Христовой! А ты, – дядя повернулся к племяннице и как-то пугающе расширил один глаз, – ты – маленькая ведьма! Я-то помню, как в трёхлетнем бесовском неразумении ты порвала Евангелие! Тьфу на тебя! А ещё крест носишь! Больше в вашем доме моей ноги не будет!
– А крест – это самый тёмный символ христианской истории, ведь на кресте мучился и страдал Христос! – выкрикнула Юлия, едва сдержав внезапно подступившие слёзы.
– Крест не только символ мученичества сына Божьего, – сердитый старый иерей застыл в дверях, – но и его воскресения. Смертью смерть поправ, даровал он всем нам веру в бессмертие!
– Так выбрали бы как символ что-то другое, крылья или просто фигурку Иисуса. Вот как буддисты делают…
– Прав Анашевский, прав! Сильнее всего бесы искушают священнических детей! – выдохнул в бессилии отец Павел.
С ректором Красноярской семинарии Анашевским отец Павел был не просто знаком – их объединяли и похожие взгляды на нынешнее состояние православия, и почти братская дружба. И сейчас Павлу Петровичу, видно, самому не понравилось, что дорогое имя сердечного друга и покровителя пришлось сделать аргументом в споре с этой неразумной, своенравной, некрасивой девчонкой! Лицо его оттого сморщилось как-то плаксиво, а когда снова разгладилось, выражение его было уже не родственным, пусть и сердитым, а чужим, далёким. Но, решив всё-таки быть честным до конца, Павел Петрович прибавил:
– Это сказано им в связи с поведением моего младшего – Гавриила, который заявил недавно, что жизнь лишена смысла. И даже ответ митрополита Филарета нашему гению Пушкину ему прочитал.
Юлии захотелось съязвить, но имя митрополита её удержало: так мучительно нежно любила она своего отца.
Как ни странно, вскоре Юлии стало жалко отцовского дядю. Ведь только доброта и мудрость делают старость прекрасной! Вот отец Николай мудр и добр, потому так и красив в своих сединах, а бедный дядя Павел так суетен в своей страсти к наградам и оттого раздражителен и некрасив… «Но разве я сама не такова? Я… Я – много хуже!»
– Как хорошо, что отец Павел к нам долго не едет! – сказала однажды Юлия матери, брезгливо поморщившись. – Он так безобразен внешне и так мерзко хрустит пальцами.
– Что ты, Юлинька, – мать заволновалась и покраснела, – отец Павел красивый и очень образованный. Но он как бы похож на дитя. Пальцы для него свои что погремушки. Ибо душа его младенчески чиста.
– Все младенцы уродливы, а он ещё и зол!
– Что ты, милая, он просто робок, сагайцев вот боится, оттого их самих карой небесной запугивает: когда он только начал служить, в соседнем ему приходе шаман настроил хакасов против русского священника, они убить его задумали – тот чудом спасся!
– Значит, отец Павел не верит, что Бог его охранит!
«Ах, Юличка, Юличка, – шептала матушка Лизавета, склонившись перед иконой, – прости её, Господи, прости…»
Но в дневнике сознания появилась ещё одна запись:
«Нарушение пропорции между материальным и духовным в сторону материального, объяснимое, а часто даже необходимое в молодости, искажает черты старости в сторону непривлекательности и даже отталкивания: так непривлекателен был бы гигантский младенец, жадно хватающий мира грудь хрустящими клешнями пальцев».
Юлия начала в тайне от всех пробовать писать стихи. И, подумав, всё-таки переписала из книги послание в стихах митрополита Филарета:
Когда в их доме бывали священнослужители соседних приходов, вести беседы о Боге они предпочитали не с отцом, а с матерью. С дядей Сашей Байкаловым обычно приезжал его сын Серёжа, ровесник Юлии, тихогласный, очень верующий мальчик, временно оставивший семинарию из-за болезни. А за диаконом Копосовым почти всегда увязывался смешливый и не сильно усердный в учении младший сынишка Миша, двумя годами моложе Юлии. Оба мальчика заслушивались её рассказами о брате Орфея – Лине. Лин – Си-лин, динлин – рифмовалось в душе. Лина из ревнивой зависти к его искусству пронзил стрелой Аполлон. Ведь было и в отце что-то такое – будто носит он в себе обломок стрелы, может быть, той самой, которой ранил второго в их роду Силина, тоже миссионера, мстительный родственник обрусевшего новокрещена.
Или она удивляла их историями о загадочной Атлантиде, захороненной где-то на дне океана. Мальчики нравились Юлии тем, что ходили за ней как привязанные, и оба, под её влиянием, стали интересоваться не только книгами, но и раскиданными по степи менгирами и подбирать любые камни, показавшиеся вдруг «ценными древностями».
Гости у отца были иные: приходили вместе с учителем Веселовским очередные ссыльные, летом забредала на чай семья дачников Шнейдеров, с мужем давно был знаком по делам журналистики дядя Володя, а жена приходилась родственницей начальнице гимназии Рачковской. С их детьми, красивыми светловолосыми мальчиками, дружили младшие сестры. Бывал в гостях у отца сын потомственного вологодского священника биолог Орлов, вскоре женившийся на одной из новых подруг старшей сестры Веры, милой девушке, приехавшей в Красноярск после окончания Петербургских естественно-научных курсов Лохвицкой-Скалон. Поступить на эти курсы захотелось и Юлии.
По-прежнему бывал и доктор Паскевич.
А мать плакала и молилась. Для матери вера была той сферой, под которой проходила вся её жизнь, отгородившаяся прозрачной стеной от пугающего земного пространства, где существовал муж, силуэт которого то отчётливо был виден на выпуклой, чуть дрожащей поверхности, то слабо проступал и расплывался в тумане. Может быть, этот замкнутый купол, воздвигнутый над душой матери её братом, обладавшим гипнотической властью фанатичной веры, и являлся первопричиной появления в их семье учительницы Кушниковой? Ведь матушка Лизавета любила брата так, как порой любят чистые душой прихожанки своего исповедника.