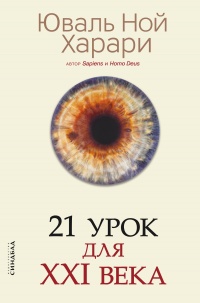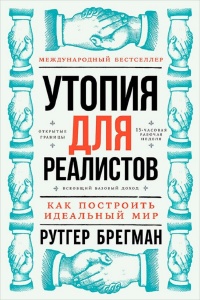Книга Религиозный вопрос в XXI веке. Геополитика и кризис постмодерна - Жорж Корм
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Гегельянство, составляющее во многих отношениях (включая наиболее авторитарные и нарциссические) центр европейского модерна, по всей видимости, осуществило наиболее успешный синтез напряжений, родившихся, с одной стороны, из столкновения традиционного религиозного духа и профанного духа, сформированного религиозными войнами, и, с другой, сопутствующего движения, запущенного открытием Нового Света и других цивилизаций, научной любознательностью, характеризующей мир Возрождения. Мир метафизического сомнения по поводу смысла человеческого существования, открытого Декартом, гегелевская философия заменила видением, которое считает себя примирительным, уважающим и сохраняющим одновременно и основополагающую роль религиозной традиции, и движение развивающейся рациональности человеческого духа.
Отсюда, как мы думаем, поразительный успех этой философии, которая впоследствии даст рождение великим профанным идеологиям XIX века – позитивизму, историцизму и марксизму. В гегелевском понимании Истории монотеизм рассматривается в качестве главного этапа прогресса человеческого Духа. Именно он заменил циклическую концепцию Истории, столь ценимую греками, концепцией эсхатологической, в которой ожидание будущих событий (возвращения Христа на землю или прихода мессии иудаизма) создает постоянное напряжение, которое посредством теологии обеспечивает прогресс Духа. Событийное и героическое видение Истории, которого придерживались греки, замещается глобальным, всеобщим и, якобы, рациональным видением монотеизма, который, по крайней мере, с христианской точки зрения, поставил в центр Истории индивида, а не его предков или племя: спасение теперь достигается на индивидуальном уровне, а не коллективном[177].
Это движение примирения религии и разума, прочные основания которого заложил Гегель, несомненно, внесёт вклад в обоснование современной «западности» европейской культуры, то есть в переписывание европейской культуры, необходимое, чтобы придать ей единство и рациональность, которые выдерживались бы с основополагающего монотеистического момента. Средневековье будет постепенно реабилитироваться и перестанет считаться эпохой упадка и обскурантизма: оно становится некоей прихожей, в которой подготавливается будущий прогресс; теологи этого периода начнут расцениваться в качестве предшественников светскости и рационалистического мышления. Несмотря на все злоключения, случившиеся в истории Европы после крушения Римской империи, несмотря на рождение и исчезновение политических формирований различной природы и степени устойчивости, историческое исследование после Гегеля пытается показать единство и непрерывность так называемой западной цивилизации. Даже религиозные войны, несмотря на все их ужасы и зверства, воспринимаются в качестве важного этапа прогресса человечества, воплощенного в истории Запада, всегда оказывающейся в авангарде. Макс Вебер завершит гегелевское обоснование этой заново выстроенной истории Запада, представив протестантизм в качестве главной составляющей европейской цивилизации, особенно её материального и экономического прогресса. Таким образом, он приручил еще одну антропологическую и социологическую традицию, открытую Монтескье и развитую Гегелем, которая состояла в прямом связывании религии и прогресса наук и разума.
Идеология «исключительности» Запада по отношению к другим народам, расам, нациям, цивилизациям и религиям, общие черты которой мы попытались описать в другой работе[178], приобретает здесь наиболее полную и завершенную форму. Функции у этой идеологии весьма многочисленные: она служит не только легитимации полученного мирового господства (и, соответственно, крупных колониальных завоеваний или гегемонии в сфере управления современной межгосударственной системой), но также для примирения внутри самого блока великих «западных» стран консервативных мнений тех, кто ностальгирует по старым формам авторитета, и мнений «прогрессистов», сторонников устранения этих форм авторитета, которые, как помеха прогрессу, должны остаться в прошлом.
Если мы и должны считать историю Европы исключительной в сравнении с историями других континентов или цивилизаций, исключительность эта заключается в едва ли не непрерывной гражданской войне, которая идет в Европе со времен религиозных войн и итальянского Возрождения (когда Макиавелли становится крупнейшим теоретиком государственной войны и государственного интереса). Французская революция – не более чем этап, пусть и значительный, этой войны между традиционными концепциями авторитета и различными формами новых концепций, которые сами постоянно меняются. Как мы видели, в противоположность тому, что утверждает новая историография, описанная нами в первой главе, Французская революция связана с предшествующим этапом религиозных войн, в определенном смысле завершая их и преодолевая, то есть она относится к ним примерно так же, как христианство считало возможным отнестись к иудаизму.
Поэтому история Европы XIX века размечена революционными извержениями, которые взывают к принципам Французской революции, проповедуя применение принципа национальностей, выступавшего в ту эпоху новшеством. Эти извержения повлекли последствия в непосредственном окружении Европы – в России, на Балканах, в Османской империи, а также на арабском средиземноморском побережье (см. выше вторую главу).
Союз европейских держав, складывающийся после крушения империи Наполеона, пытается ограничить их прямые столкновения и организовать экспансию за пределы Европы, которая ускоряется в ритме грохочущего колониального пульса. Крымская война (1853–1856 гг.) или балканские войны (1912–1913 гг.) – это кровопролитные «срывы», которых этому союзу не удается избежать в период постепенного расчленения Османской империи, близкого соседа Европы. Они предвещают Первую мировую войну, свеча которой зажжется на Балканах. В противоположность тому примирительному видению истории Европы XIX века, которое можно найти у Рэймона Арона, она вовсе не была историей мирного века[179], скорее уж продолжением противоречивой и силовой динамики, «диалектическим» теоретиком которой хотел выступить Гегель, а затем Маркс. Гегелевско-марксистская диалектика давно лишилась смысла: «хитрости Истории» или насилие как «повитуха человеческого прогресса» привели лишь к неожиданному варварству двух мировых войн, а также к бессчетным яростным войнам на периферии Европы, вызванным деколонизацией и холодной войной.