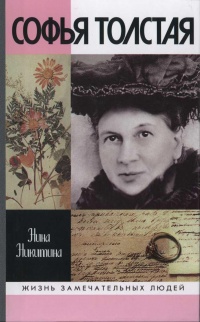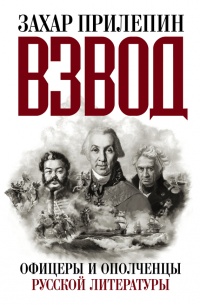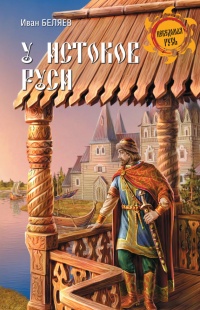Книга Гончаров - Владимир Мельник
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В Симбирске в 1849 году роман об Илье Обломове вырабатывался в голове, по собственному признанию писателя, «медленно и тяжело». Зато здесь же возникает план ещё одного романа: «План романа «Обрыв» родился у меня в 1849 году, когда я после четырнадцатилетнего отсутствия в первый раз посетил Симбирск, свою родину. Старые воспоминания ранней молодости, новые встречи, картины берегов Волги, сцены и нравы провинциальной жизни — всё это расшевелило мою фантазию, и я тогда же начертил программу всего романа, когда в то же время оканчивался обработкой у меня в голове другой роман — «Обломов»». Может быть, именно в то время впервые Гончаров связывает в своём сознании все три своих романа в единое целое — трилогию. Окрылённый успехом «Обыкновенной истории» и «Сна Обломова» Гончаров мог строить не просто планы, а планы дерзкие. Образцы были перед глазами: гончаровский современник О. Бальзак, ещё не вполне понимая цельности замысла, писал роман за романом, словно кирпичи грандиозного здания «Человеческой комедии», а ещё живой русский классик Н. В. Гоголь решил же писать свои «Мёртвые души», ориентируясь на бессмертного Данте, который объединил в «Божественной комедии» картины ада, чистилища и рая. «Ад» с героями Адуевыми уже написан. Остаётся если не показать идеал, то хотя бы наметить пути к нему. И пусть последний герой будет носить фамилию — Райский. Ну а «чистилище» — это то, что посередине — между адом и раем. Ни то и ни другое. Обломок. Вот и получится не бальзаковская, идущая вширь, а дантовская «комедия» человеческой жизни, выстраивающая высокую вертикаль от земли до неба… Возможно ли, чтобы у «полусонного» Гончарова, признанного бытописателя, с удовольствием описывавшего сковородки на кухне у служанки Обломова Анисьи, был столь высокий, поистинне божественный план? Не простое ли здесь совпадение: Адуевы — Обломов — Райский? Кажется странным, что Гончаров, который, по утверждению многих, писал не умом, но сердцем, мог посягнуть на столь сложную романную конструкцию, как трилогия в духе «Божественной комедии» Данте. Ведь в статье «Лучше поздно, чем никогда» он признавался, что пишет интуитивно: «Обращаюсь к любопытному процессу сознательного и бессознательного творчества. Я о себе прежде всего скажу, что я принадлежу к последней категории, то есть увлекаюсь больше всего (как это заметил обо мне Белинский) «своею способностью рисовать». Рисуя, я редко знаю в ту минуту, что значит мой образ, портрет, характер: я только вижу его живым перед собою — и смотрю, верно ли я рисую, вижу его в действии с другими — следовательно, вижу сцены и рисую тут этих других, иногда далеко впереди, по плану романа, не предвидя ещё вполне, как вместе свяжутся все пока разбросанные в голове части целого». Надо признать, что и так называемое «бессознательное» творчество строится на любимых идеях и идеалах художника, и масштаб «целого», то есть окончательного замысла, зависит от масштаба этих идей и идеалов. Гончаров был художником всеобъемлющих идей и высочайших идеалов, ибо ставил конечный вопрос о смысле жизни человека. Иное дело, что «общая идея», объединяющая три романа в некое единое целое, вырисовывалась в жизненных подробностях и связях с изменяющейся действительностью далеко не сразу. На это оказались нужны годы, почти два десятилетия… Однако, когда Гончаров закончил свою романную трилогию, он написал: «Я… вижу не три романа, а один. Все они связаны одною общею нитью, одною последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни… к другой».[163] И дело не только в русской жизни: Гончаров пишет и жизнь мировую, и более того, решая проблему смысла человеческой жизни, он ставит вопрос о жизни человека в вечности. Именно религиозный пафос Данте и Гоголя увлекает его, ибо — при всех его разнообразных колебаниях и поисках — неизменым для него оставалось одно убеждение: выше Христа никого и ничего нет. Эта была конечная точка всех его творческих поисков. Ради этого стоило работать, ибо ради этого работали все величайшие европейские художники нового времени, а главное — это отвечало строю его души, давало смысл жизни.
Но пока поездка в Симбирск не расставила всех точек над «i» и прояснила для Гончарова его писательской судьбы: «Обломов»
остался незаконченным, несмотря на сокрытие в своей комнате от соскучившихся родственников, будущий «Обрыв» вырывался из-под пера какими-то прекрасными, но незаконченными кусками, а общая перспектива романа рисовалась в далёком тумане… 13 июля 1849 года он пишет Майковым: «… Мне еще хорошо, а вот что-то будет подальше, как всюду преследующий меня бич — скука — вступит в свои права и настигнет меня здесь: куда-то я скроюсь? А уж предчувствие-то скуки есть. О, Господи, Господи! Спаси и помилуй». Пожалуй, впервые слово «скука» прозвучало в письмах Гончарова столь значимо и грозно. Но именно с 1849 года оно начнёт звучать всё чаще — рядом с другим холодным и скользким словечком: «хандра». 20 августа того же года он пишет из Симбирска своей знакомой Ю. Д. Ефремовой: «… Здесь я ожил, отдохнул душой и даже помолодел немного, но только поддельною, фальшивою молодостью, которая, как минутная веселость от шампанского, греет и живит на минуту. Мне и не скучно пока, и не болен я, и нет отвращения к жизни, но все это на три месяца. Уж чувствую я над головой свист вечного бича своего — скуки, того и гляди, пойдет свистать. Прав Байрон, сказавши, что порядочному человеку долее 35 лет жить не следует. За 35 лет живут хорошо только чиновники, как понаворуют порядком да накупят себе домов, экипажей и прочих благ. — Чего же еще, рожна, что ли? — спросят. Чего? Чего? Что отвечать на такой странный вопрос? Отсылаю вопрошателей к Байрону, Лермонтову и подобным им. Там пусть ищут ответа». Лень, скука, апатия, хандра. Эти слова сопровождают любимых героев Гончарова, притом героев автобиографических: младшего Адуева, Обломова, Райского. В Симбирске мать писателя Авдотья Матвеевна и его сёстры гордились им, показывали, словно чудо, всему городу, но дома наедине не могли не задать Ивану Александровичу вопрос: «А жениться-то когда будешь?» Болело сердце за успешного, но неудачливого сынка и брата. Гончаров, конечно, отшучивался, но на самом деле жизнь заходила в какое-то непредвиденное для него самого русло: 37 лет уже позади, а что-то не получается с личной жизнью. И что обидно: в этом не люди виноваты…
Несмотря на то что в дружеском кругу Гончарова звали «де Лень» и он производил впечатление человека, который более всего любит покой и комфорт, он стал единственным из крупных русских писателей, совершившим морское кругосветное путешествие. Были, правда, ещё K.M. Станюкович[164] да Д. В. Григорович,[165] но масштаб таланта здесь другой. Иные и результаты морских путешествий. Гончаров писал не морские пейзажи и жанровые картинки из жизни экипажа корабля. Его книга претендовала на большее. Это своего рода философия жизни и современной цивилизации.