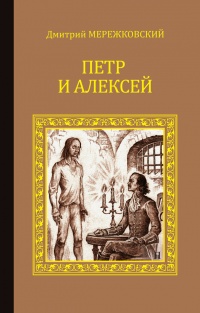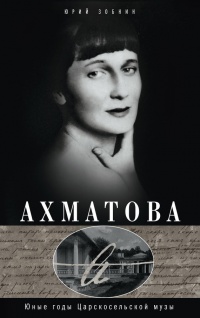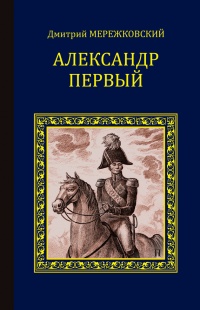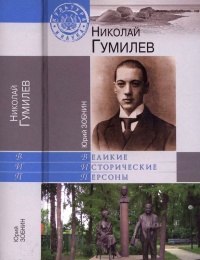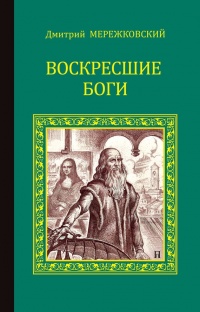Книга Дмитрий Мережковский - Юрий Зобнин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Но тем лучше, что яркий! – удивился Дмитрий Сергеевич.
– Помилуйте, мы в общественной хронике все время боремся против классической системы воспитания, и вдруг целая трагедия Эсхила…
Впрочем, античные переводы Мережковского все-таки были востребованы тяготеющим к «академизму» «Вестником Европы» и ныне составляют гордость русской школы художественного перевода.
Но уже с конца 1891 года, по мере «углубления» Мережковского в работу над «Юлианом Отступником», и переводы, как и ранее стихотворения, постепенно отступают на второй план.
Мережковский находит свою художественную форму и, главное, находит своего героя.
До сих пор не совсем ясно, каким образом его заинтересовала эпоха, почти невозможная, невиданная в тематике отечественной словесности, – Византия, IV век по Рождеству Христову (возможно, опять-таки помогли греческие переводческие штудии).
Император Юлиан, внук Константина Великого, царствовал всего три года (он погиб во время парфянской войны в 363 году), однако это царствование вошло в историю как самая яркая попытка волевого действия «против течения» исторического хода вещей: Юлиан, один из образованнейших людей своего времени (он прошел курс наук в Афинском университете и обладал блестящим литературным дарованием), попытался восстановить в Восточной империи эллинское язычество, потесненное торжествующим после миланского эдикта 313 года христианством. Попытка эта, заранее обреченная на провал, принесла Юлиану прозвище «Апостаса» (отступника), а его предсмертные слова «Ты победил, Галилеянин!» – вошли в свод «исторических речений».
Юлиан в романе Мережковского (заметно отличающийся от своего исторического прототипа) был идеальной фигурой для изображения той ситуации, в которую на рубеже 1880-1890-х годов попадает наш герой. Признавая высокую духовную красоту христианской проповеди, Юлиан не может принять ее, ибо практическое воплощение заповедей христианства кажется ему тотальным отрицанием чувственной, «плотяной» жизни, организация которой в языческой античной культуре достигла высокой гармонии. Трагизм его положения в том, что любой из возможных вариантов выбора между «духовностью» христианства и «плотской» гармонией язычества, по совести, не может принести ему полного удовлетворения. Его идеал – синтез духа и плоти, такое состояние бытия, при котором плотская жизнь была бы одухотворена настолько, что духовные идеалы могли бы беспрепятственно воплощаться в повседневности. Величие Юлиана – как следует из романа – в том, что он нашел в себе силы попытаться этот идеал осуществить на практике. Ничтожество же – в его непонимании чудесной природы подобного синтеза, неосуществимого только человеческими силами, без помощи того Бога, борьбу с Которым Отступник сделал своей главной задачей. Это понимает мудрая подруга императора Арсиноя. «Я знаю, – говорит она Юлиану во время их последней встречи, – ты любишь Его. Молчи, – это так, в этом проклятье твое. Какой ты враг Ему? Когда твои уста проклинают Распятого, сердце твое жаждет Его. Когда ты борешься против имени Его, – ты ближе к духу Его, чем те, кто мертвыми устами повторяет: Господи, Господи! Вот кто твои враги, а не Он».
Позже «духовными близнецами» Юлиана в поисках гармонии «духа» и «плоти» «на земле, как на небе» станут все, без исключения, главные персонажи Мережковского: Леонардо, Петр, Александр I, Рылеев, Пестель, Наполеон, Франциск Ассизский, Жанна д'Арк, Августин, Павел, фараон Эхнатон, Лютер, Кальвин, святая Тереза Авильская, святой Иоанн Креста и, наконец, героиня последнего (неоконченного) романа – Маленькая Тереза Сердца Иисусова.
Это не однообразие и «самоповторение», как часто упрекали Мережковского его строгие (и большей частью) пристрастные критики. Это – сознательное настойчивое стремление укоренить в мировом литературном контексте XX века образ, который, как считал Мережковский, символизирует собой деятельную практическую христианскую религиозность – единственное, что может противостоять надвигающемуся одичанию «цивилизованного мира».
«Метафизическое» содержание этого образа восходит к христианскому провиденциализму.
Провиденциализм – христианская философия истории – говорит об историческом процессе как о возможном, но не обязательном состоянии человечества. Человек создавался Богом не для исторического бытия с его жестокостью, страданиями и неизбежной смертью. Назначение человека – прославление своего Творца в вечной любви к Нему. Родина человечества – рай, находящийся вне времени и пространства. Однако первые люди, наделенные главным даром Творца, поставившим их выше всех других творений, – свободой, употребили этот дар для того, чтобы ослушаться Бога, для грехопадения. Тогда-то и возникла история: люди были изгнаны из вечного и бесконечного рая в «земное» время и пространство, в страдания и смерть. Сделано это было для того, чтобы люди научились пользоваться даром свободы правильно. Человек свободно смог ослушаться своего Создателя. Теперь же он точно так же свободно, на основании своего личного опыта, должен прийти к убеждению, что Богу все-таки надо повиноваться. Только как средство получения этого опыта – как каждым отдельным человеком, так и всем человечеством в целом – историческое бытие имеет смысл.
В романе мы видим конкретизацию провиденциалист-ских постулатов: главное содержание жизни человека в истории – страдание, которое проистекает от того, что в человеческом существе присутствуют два взаимоисключающих начала: «духовное» и «плотское». Эти два начала порождают две системы ценностей, и, естественно, все то, что любит «дух», отрицательно сказывается на «плоти», а все «плотское» ужасает «духовное». Какое-то время человеку кажется, что он сам в состоянии разрешить это противоречие, создать «собственный рай», «рай на земле», однако ужасные последствия, к которым приводят подобные попытки (писано это, заметим, за четверть века до «великого эксперимента» коммунистов в России), заставляют наглядно убедиться в том, что вне помощи Творца человек воистину не может «творить ничего» – ничего хорошего. Здесь уместно вспомнить и замечательные слова апостола Павла (героя одной из будущих книг Мережковского): «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но что бы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим» (Рим. 7. 18–25).
И все же в первом романе трилогии, как уже говорилось выше, существует некоторая неопределенность в понимании молодым художником как христианской проповеди, так и смысла деятельности Церкви, которая в романе сводится исключительно к пропаганде аскетического жизнеотрицания. «Когда я начинал трилогию „Христос и Антихрист“, – свидетельствовал позже сам Мережковский, – мне казалось, что существуют две правды: христианство – правда о небе, и язычество – правда о земле, и в будущем соединении этих двух правд – полнота религиозной истины. Но, кончая, я уже знал, что соединение Христа с Антихристом – кощунственная ложь; я знал, что обе правды – о небе и о земле – уже соединены во Христе Иисусе… Но теперь я также знаю, что мне надо было пройти эту ложь до конца, чтобы увидеть истину».