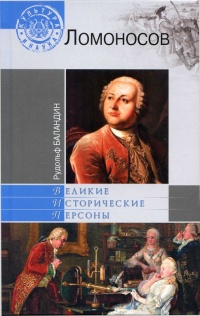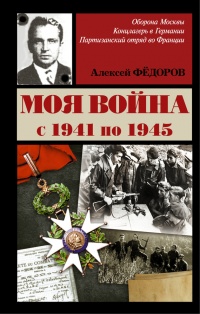Книга Кузьма Минин - Валентин Костылев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Будь проклят! – шепчут побелевшие губы Ирины.
И Пекарский заодно с отцом… этот сатана!
«Ах, Халдей! Не поняла я тебя тогда! Прости меня!»
Ирине захотелось предупредить Прокопия Ляпунова. Но где он, кто он, как его предупредить?! Ничего этого не знала она, пленница своего отца… опозоренная, всеми забытая «блудница»! Так ее в минуты гнева называл отец… «блудница»!
Ирина стала на колени перед иконами.
* * *
Полночное небо озарялось яркими молниями. Грома не было. Дождя тоже.
По шатрам в страхе гадали: чему предзнаменованием сухая молния?
В боярском шатре набившиеся туда именитые воеводы: нижегородский князь Репнин, костромской князь Федор Волконский, романовский князь Пронский и другие – предрекали всеконечную гибель Московскому государству. Сухая молния – не к добру. Смута оттеснила от власти высокородных бояр, это не пройдет даром. А во всем виноват покойный царь Грозный. (При упоминании о нем никто не перекрестился, как того требовал обычай.) Принизил он боярство, дал повод простому, худородному люду лезть на верха. Молодец Курбский, что убежал в Литву! Дело прошлое, но… кто же из бояр теперь скажет доброе слово о царе Грозном?
«Всех удельных мужиков: и ярославских, и тверских, и всех других – в одну орду свел, а мне теперь расплачиваться», – ворчали князья.
Нижегородский воевода поведал о том, как «зело извольничались» его нижегородцы, все эти посадские старосты, ремесленники и крестьяне. Возымели голос! Просил денег – отказали. Биркин пишет, будто верховодит ими некий мужик, посадский говядарь Кузьма.
– Не хлебнули они того горя, что иные города, – обиженно жаловался он. – Гордыню их бог не подверг испытанию. Всех зорили, а их нет. Не вернусь я больше в Нижний. Уеду к себе в вотчину.
В голосе князя Репнина слышалась обида. Казалось, он жалеет о том, что Нижний Новеград остался неразоренным и не сожженным поляками и ворами, как то было с другими городами.
Костромской воевода Шереметев свирепо стукнул кулаком по столу. И у него посадский народ начал своевольничать. Грамотами какими-то, помимо воеводы, с другими посадами перекидываются. Бояр и дворян «опасаются токмо наружно», а в душе ни в грош их не ставят. Эх, когда только руки доберутся до них! Поскорее бы вернуться в Кострому!
– Помог бы я тогда и тебе, князь, с твоим Кузьмой расправиться.
Ахали, вздыхали присутствующие. Князь Репнин сообщил потихоньку, что даже тут, в московском стане, есть нижегородские соглядатаи.
Вспыхнула яркая молния, загремел неслыханной силы гром.
Бояре в страхе перекрестились.
Из угла выполз шепот: «Неужели и за нами следят?!»
Всем стало страшно. О, эти невидимые глаза непонятного, загадочного, как казалось боярам, чудовища, которое зовется «подлым людом», глаза замуравленных в избах и землянках крепостных крестьян, глаза посадских тяглых людей, глаза мелкого служилого люда и ремесленников!
Что-то будет?
И вдруг в шатер вместе с пыльным вихрем ворвался какой-то монах, закричал, задыхаясь: «Ляпунова убивают!» Князья схватились за сабли. Монах продолжал: «В измене обвинен! Грамоту рассылал… С панами заодно!» И скрылся.
Бояре выскочили из шатров. Где-то поблизости дико галдела толпа.
* * *
Свершилось.
Мосеев и Пахомов собственными глазами видели прикрытые рогожами куски тела Ляпунова, изрубленного казаками.
В лагере утром после грозовой ночи наступило сумрачное безмолвие. Ополченцы попрятались в шатры.
Первый поднявший саблю на Ляпунова атаман Сергей Карамышев, сидя на скамье в казацком шатре, плакал. Его поили вином, чтобы «утихло сердце», но ничего не помогало.
Мосеев, обходя таборы и подслушивая, заглянул в эту палатку. Многих тянуло посмотреть на «убивцу-атамана».
Но рта людям не завяжешь: истинным виновником убийства людская молва называла второго воеводу, Ивана Мартыныча Заруцкого.
Мосеев видел этого кривоногого, головастого, с огромными не по росту черными усами человека. Слышал его грубый, сиплый голос. Удивлялся его нарядным (немецкого мастерства) доспехам и его беспечному виду.
Один старик-гудошник, уведя Мосеева в монастырский сад, рассказал:
– В те поры, когда Заруцкий был ребенком, татары захватили его в плен. В Орде он вырос, стал лихим наездником и ускакал к донцам, к казакам. Был самозванец – он имел большой доступ к нему. Ежели нужно было кого взять, убить или утопить, исполнял всё он с великим старанием… После того передался он поляцкому королю… Потом откололся и от поляков… Ныне прилепился к Прокопию, объявил себя его товарищем, – и вот…
Старик остановился. В глазах у него выступили слезы.
– Невинно человек пострадал… А князь Трубецкой слаб, поддается Ивашке Заруцкому. Гляди, ныне властителем будет он, Ивашка… Горе нам! Маринкиного сына[40] провозгласит царем…
Когда гудошник и нижегородец вышли из пустынного монастырского сада, они увидели около воеводского шатра на коне Заруцкого, окруженного атаманами и дьяками. Лицо у него веселое, красное, лоснящееся. Вместо шлема – нарядная шапка из бобра с зеленым донышком, касавшимся золоченой кистью щеки. В ушах большие серпообразные серьги.
Он громко смеялся, разговаривая с атаманами.
Заруцкий не заботился о том, чтобы скрыть свою радость по случаю смерти Ляпунова.
А на следующий день по лагерю разнеслась новость. Заруцкий на казацком кругу объявил: царем должен быть сын Марины Мнишек – Иван Пятый. Ему и нужно целовать крест.
Но ведь не было тайной, что Маринка давно уже супруга Заруцкого. А значит, и короны он добивался для себя, а не для ее сына.
Другой правитель ополчения – князь Дмитрий Трубецкой – со своими приверженцами не желал и слушать о «маринкином сыне». Он думал: «Не пригласить ли на престол шведского королевича Карла-Филиппа?»
Но вот из Пскова пришли казаки с грамотой. А в ней говорилось, что Димитрий Второй, тушинский, не убит. Он жив, взял своею силою Псков и скоро придет в Москву.
Бояре пробовали разуверить казаков, доказывая, что во Пскове не царь, а новый вор, новый самозванец. Они называли его бродягой Сидоркой, но казаки пригрозили пиками…
Пришлось молчать.
Пахомову и Мосееву стало ясно: начавшийся в подмосковном лагере разлад ополчению добра не принесет. Дух польского гарнизона, наоборот, поднялся.
Кремлевские бояре, воспользовавшись смертью Ляпунова, решили послать к королю Сигизмунду новое посольство.
На этом настояли Гонсевский и Михайла Салтыков.
В грамоте бояр к королю говорилось: «Беспрестанно ездя по городам из подмосковных таборов, казаки грабят, разбивают и невинную кровь христианскую проливают, боярынь и простых женщин и девиц насилуют, церкви божии разоряют, святые иконы обдирают, ругаются над ними так, что и писать страшно».