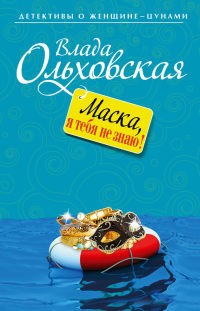Книга Серые души - Филипп Клодель
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хотя, быть может, Дестина, в сущности, уже и не замечал это большое полотно, ставшее для него просто картиной, а не портретом жены, которую он любил и потерял? Быть может, он заслужил это музейное существование, эту бесплотность, которая позволяет не волноваться, глядя на фигуры под лаком, твердо веря, что они никогда не жили, как мы, не дышали, не спали, не потели, не страдали?
Из-за наполовину прикрытых жалюзи по всем комнатам растекалась приятная тень. Все было в порядке, безупречно, расставлено по местам в ожидании владельца, уехавшего на курорт и собиравшегося вернуться со дня на день, чтобы вновь оказаться в привычной обстановке. Самое любопытное, что не чувствовалось никаких запахов. А дом без запахов – довольно мертвый дом.
Это странное путешествие затянулось надолго. Я вел себя как бесцеремонный пришелец, который, не обращая ни на что внимания, следует размеченным вехами маршрутом. Замок превратился в раковину, и я медленно шел по ее спиралям, постепенно приближался к самой сердцевине, проходя через обыкновенные комнаты, кухню, кладовую, прачечную, бельевую, гостиную, столовую, курительную, пока не достиг библиотеки, стены которой были полностью уставлены прекрасными книгами.
Комната была невелика: в ней стоял письменный стол, на нем – письменный прибор, настольная лампа под металлическим абажуром, разрезной нож, черная кожаная подкладка под бумаги. По обе стороны стола помещались два глубоких, просторных кресла с разлапистыми подлокотниками. Одно из них казалось новым, другое, наоборот, хранило отпечаток тела; его кожа растрескалась и местами залоснилась. Я сел в новое. В нем было удобно. Кресла располагались друг против друга, стало быть, напротив моего стояло как раз то, в котором Дестина провел столько времени, читая или ни о чем не думая.
Книги, расставленные по стенам, как солдаты бумажной армии, поглощали все наружные звуки. Не было слышно ничего, ни ветра, ни гула Завода, хоть и близкого, ни птичьего пения в парке. В кресле Дестина лежала открытая книга, верхом к подлокотнику. Это была очень старая книга, с загнутыми уголками истертых страниц, которые пальцы наверняка переворачивали в течение всей жизни. Экземпляр «Мыслей» Паскаля. Книга лежала совсем рядом со мной. Я взял ее себе. Она и сейчас открыта на той же странице, что и тогда, во время моего визита в Замок. И на этой странице, забитой ханжеством и путаными словами, есть две блестящие фразы, словно отсвет золотых подвесок на луже гноя, две фразы, подчеркнутые карандашом, рукой Дестина, две фразы, которые я знаю наизусть:
«Как бы красива ни была комедия в остальных частях, последний акт всегда кровав. Набросают земли на голову – и конец навеки!»[7]
Бывают слова, от которых холодок бежит по спине и отнимаются руки и ноги. Эти, например. Я ничего не знаю о жизни Паскаля, да впрочем, она мне в высшей степени безразлична, но уверен, что он наверняка не слишком ценил комедию, о которой говорил. Как и я. Как и Дестина, разумеется. Он тоже наверняка вволю нахлебался горечи и слишком рано терял любимые лица. Иначе никогда бы этого не написал: когда живешь среди цветов, о грязи не думаешь.
С книгой в руке я пошел из комнаты в комнату. В сущности, они все были похожи. Голые комнаты. Я хочу сказать, что они всегда были голыми, чувствовалось, что они заброшены, оставшись без воспоминаний, без прошлого, без эха. Они печальны, как предметы, которыми так и не воспользовались. Им немного не хватало беспорядка, нескольких царапин, человеческого дыхания на оконных стеклах, веса уставших грузных тел в постелях с балдахином, детских игр прямо на ковре, ударов в двери, слез, пролитых на паркет.
В самом конце коридора находилась комната Дестина, чуть поодаль от других, в глубине. Впрочем, ее дверь была выше, суровее и темнее, оттенка, близкого к гранатовому. Я сразу же понял, что это его комната. Она могла быть только тут, в конце этого коридора, похожего на пассаж, на чопорную аллею, вынуждавшую двигаться по нему особенным шагом, степенным и осмотрительным. На стенах с обеих сторон висели гравюры: древние физиономии, рухлядь давно минувших веков, в париках и кружевных воротниках, с тонкими усиками, с латинскими надписями, вьющимися, словно орденские цепи. Настоящие кладбищенские портреты. У меня возникло впечатление, что все они смотрели, как я иду к высокой двери. Я обзывал их по-всякому, чтобы придать себе храбрости.
У комнаты Дестина не оказалось ничего общего с теми, что я видел. Кровать была маленькая, узкая, одноместная и по-монашески простая: железные спинки, матрас, никаких финтифлюшек, никакого ниспадающего с потолка полога. Ничего. Стены просто обтянуты серой тканью, никаких картин, никаких украшений. Рядом с кроватью – небольшая тумбочка с распятием. У изножия кровати – туалетный набор, кувшин, таз. С другой стороны – высокий стул. Напротив кровати – секретер, на котором не лежало ничего. Ни книги, ни листка бумаги, ни пера.
Комната Дестина была похожа на него самого. Безмолвная и холодная, от нее становилось не по себе, но при этом она внушала своего рода вынужденное уважение. Эту непомерную отстраненность она почерпнула в снах своего хозяина, сделавшего из нее место, в котором было мало человеческого, обреченное навечно стать непроницаемым для смеха, радости, счастливых вздохов. Сам ее порядок делал упор на мертвые сердца.
Держа в руке томик Паскаля, я подошел к окну: оттуда открывался прекрасный вид на Герланту, на маленький канал, на скамью, откуда смерть забрала Дестина, на домик, в котором жила Лизия Верарен.
Я как нельзя близко подобрался к тому, чем была жизнь Дестина. Я не говорю о его прокурорской жизни, но о внутренней, единственно подлинной жизни, той, что маскируют под румянами, учтивостью, работой и разговорами. Вся его вселенная сводилась к этой пустоте, холодным стенам да нескольким предметам обстановки. Передо мной предстала самая сокровенная часть этого человека. Я, можно сказать, оказался в его мозгу. Еще немного, и я бы не удивился, увидев, как он сам тут внезапно появляется и говорит мне, что ждет меня и что я весьма подзадержался. Эта комната была так далека от жизни, что, увидев тут вернувшегося мертвеца, я бы совсем не удивился. Но у мертвых – свои заботы, которые никогда не пересекаются с нашими.
В ящиках секретера были аккуратно разложены отрывные календари с вырванными листками, от которых остались только корешки с указанием года. Их были десятки, и все они своей тонкостью свидетельствовали о тысячах минувших дней, уничтоженных, выброшенных в мусорную корзину, как олицетворявшая их легкая бумага. Дестина их хранил. У каждого – свои четки.
Самый большой из ящиков был заперт на ключ. И я знал, что незачем искать этот маленький ключик, наверняка черный, любопытной формы, поскольку я опасался, что он лежит в могиле, прицеплен к золотой цепочке вместе с часами, в часовом кармашке жилета, от которого, быть может, уже остались только лоскуты.
Я взломал ящик своим ножом. Дерево уступило, выбросив фонтанчик мелких щепок.
Внутри оказался один-единственный предмет, и я его сразу же узнал. Мое дыхание остановилось. Все стало нереальным. Это был изящный прямоугольный блокнотик в красном сафьяновом переплете. Последний раз я видел его в руках Лизии Верарен. Это было много лет назад. В тот день, когда я поднялся на гребень холма и застал ее за созерцанием великого поля смерти. Мне вдруг показалось, что она со смехом вошла в комнату и остановилась, удивленная моим присутствием.