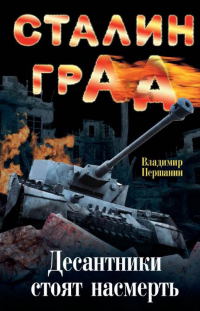Книга Жертвы Сталинграда - Отто Рюле
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Где мы? — спросил кто-то.
Но никто не мог ответить на этот вопрос. Все щели в вагоне мы сами же заткнули, так как на улице стало уже очень холодно. А в вагоне — не продохнуть от вони.
Стоны, храпение, вскрикивание во сне действовали на нервы. А тут у самого страшно ломило все кости, к тому же полная неизвестность…
Интересно, где в этот момент находятся мои товарищи по санроте и госпиталю? Ни об одном из них вот уже с 30 января я ничего не знал. Все они словно в воду канули.
Невольно вспомнился тот путь, который я проделал вместе с ними.
…Начался этот путь в конце февраля 1942 года в принадлежащем тогда рейху городе Ульме на Дунае. Именно там меня, войскового казначея, назначили в моторизованную санроту. Вскоре пришел приказ грузиться.
Санрота выехала в дивизию, которая находилась в Бретани. Однако там мы пробыли недолго. И снова приказ грузиться!
Грузилась вся дивизия целиком. И для того чтобы перевезти одну пехотную дивизию с запада на восток, потребовалось несколько железнодорожных эшелонов. А весной 1942 года многие дивизии направлялись с запада на восток. В пути, однако, мы встречали войска, которые возвращались с востока. В этих частях, на удивление, было мало машин и тяжелой артиллерии. На одной из станций во Франции мы стояли рядом с таким эшелоном, который шел на запад. Мы узнали, что наши товарищи вели тяжелые кровопролитные бои под Тулой и теперь ехали на переформирование.
Кроме военфельдшера Риделя, который в прошлом году побывал под Смоленском, никто из нас в России еще не был и потому не имел никакого представления о войне в тех условиях. Правда, мы слышали немало рассказов о России, но это были только рассказы. Когда я вспоминал 21 июня 1941 года, меня сразу же начинало мутить. В России у меня погибли два шурина: один погиб, другой пропал без вести. Расстрелы заложников во Франции меня буквально потрясли.
— Что с тобой? — спросил меня тогда фельдшер Гизелер. — Разве ты не рад, что с этим дерьмом наконец покончено? Меня лично радует, что мы наконец получили настоящую работу.
— Я сыт этой тупостью. Что же будет дальше? Для меня лично Россия всегда была книгой за семью печатями, загадочным сфинксом. Как нравится тебе это сравнение?
— Мне не нравится ни то, ни другое сравнение. Я люблю слушать «Прелюды» Листа, особенно когда вслед за музыкой по радио передают специальные сообщения, — сказал Гизелер, изучающе глядя на меня. — Вот уже два года мы одерживаем победы, каких не знала ни одна армия в мире. Александр Македонский и Наполеон и те бледнеют перед нами.
— Не забудь, что ни Александр Македонский, ни Наполеон так и не добились своей конечной цели, а созданные ими империи быстро развалились, — заметил я. — Ребята, которые побывали под Тулой, отнюдь не показались мне героями.
— Это мало о чем говорит. Русские более привычны к зиме, чем немцы. Привыкнем и мы. К Рождеству война закончится, — предсказал Гизелер.
— Поживем — увидим.
Война против Советского Союза не вызывала у Гизелера такого беспокойства, как у меня. Я считал русских опасными противниками. И, несмотря на легкие победы, одержанные немцами в Европе, я понимал, что восточный поход с самого начала — очень опасная авантюра. Гизелер в свое время был вожаком одной из организаций гитлерюгенда и был убежден в превентивном характере войны против Советской России. Он не сомневался в конечной победе немцев.
Пребывание на фронте отрезвило его.
Однажды в сентябре 1942 года в Вертячем на Дону фельдшер Гизелер пришел проведать своих старых товарищей. Он вот уже месяц был назначен в один пехотный батальон.
— Ну, Гизелер, как твои дела? — обратился я к нему, когда мы впятером сидели в комнате командира роты, освещенной карбидной лампой.
Гизелер немного помедлил, а потом заговорил:
— Скверно, очень скверно. Вот уже трое суток мы находимся на отсечной позиции, левый фланг которой прилегает к Дону. Времени как следует оборудовать позиции у нас нет. Каждый взвод, каждая рота отрывают для себя ячейки и окопы среди голой степи. Русские, пытаясь прорвать фронт, предпринимают одну атаку за другой.
— Надо полагать, психологическое состояние войск не блещет? — спросил Гутер.
— Солдаты очень устали, — сказал Гизелер. — От самого Харькова наш батальон прошел с боями тысячу километров. От всего личного состава осталась ровно половина. До сих пор мы не получили пополнения, а каждый день несем потери убитыми, ранеными и больными. Никто не знает, когда и как все это кончится.
— А помнишь, Гизелер, как мы ехали из Франции в Россию? Ты еще тогда говорил об Александре Македонском и Наполеоне, которых мы якобы затмили? Помнишь, нет?
— Ах, Отто, перестань, пожалуйста! Чего мы тогда только не говорили, на что не надеялись! Я даже помню, как сказал тебе, что эта война кончится до Рождества. Ты ведь знаешь, как у нас тогда шли дела. Видимо, что-то у нас стало не в порядке. Хочется верить, что наша империя не распадется, как империя Александра Македонского, и мы не будем разбиты, как армия Наполеона. Сейчас мне в голову приходят невеселые мысли…
— Видишь ли, мы заварили эту кашу, нам ее придется и расхлебывать.
Трудно было узнать в этом фельдшере с новеньким Железным крестом II класса прежнего оптимиста. Гизелер не был трусом. Его беспокоило наше будущее, тем более что не за горами была зима со снегом и морозами, а войска лежат в открытой степи. А как будет обстоять дело с подвозом, когда бураны заметут все дороги?
Разговор не клеился, и скоро все разошлись спать…
Ночью, часа примерно в два, наш поезд все еще стоял. У меня ужасно ныли все кости, и я никак не мог уснуть.
Солдаты гуманной профессии!
Моя вера в гуманность медперсонала еще и до нашего окружения не раз подвергалась серьезным испытаниям. Однако каждый раз я старался убедить себя в этом, даже когда разочаровывался в тех, в ком хотел увидеть образец для себя. Так, например, было и в сентябре прошлого года в Вертячем.
… Дивизионный врач подполковник Маас довольно часто появлялся в нашем медпункте. Я заметил, что он охотнее беседует с капитаном Бальцером, чем с командиром роты или другими офицерами. Но почему бы это?
Здоровяку подполковнику перевалило за пятьдесят. На толстом его лице светились два крошечных, как у мышонка, глаза. Зато нос у него был огромный и фиолетового цвета. Между двумя мировыми войнами доктор Маас имел свободную практику в Падерборне и в армию попал четыре года назад. И даже если учесть, что в Первую мировую войну он получил Железный крест I класса, приход Мааса в армию был запоздалым. Военврач на шестом десятке не мог уже рассчитывать на успешное продвижение по службе. Он надеялся заручиться поддержкой старого нациста Бальцера. Именно поэтому их и можно было часто видеть вдвоем.
В тот вечер они засиделись допоздна. Была уже полночь, когда кто-то постучал в мою дверь. Вошел ефрейтор.