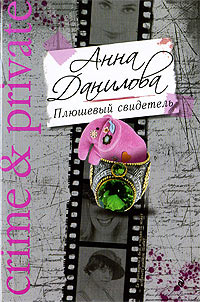Книга Алмазы Джека Потрошителя - Екатерина Лесина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Прозвучало жалко. Далматов пожал плечами и ответил:
– Иди. Одевайся. И поешь. Когда накрывает, еда – лучшее средство. А я здесь… разберусь.
Саломея кивнула. Этот вариант вполне ее устраивал, поскольку с душевыми кабинами подобного типа ей сталкиваться не приходилось, да и сама мысль о трубах, патрубках и болтах с гайками внушала глубокое отвращение, вероятно прописанное в женских генах. Где-то там сидело и неудовлетворенное любопытство, которое требовало немедленно выяснить, где это Далматов провел прошлую ночь, во сколько он вернулся. Зачем ему отрава.
А за окнами лил дождь. Капли скользили по стеклу, сталкивались друг с другом, сливались, образуя пленку, из-за которой в комнате становилось темно. А в темноте ждет запределье.
Саломея, переодевшись – вещи брала из сумки наугад, лишь бы потолще, потеплее, – включила свет. Но его было так мало. Слишком мало, чтобы жить. И она, спеша отогнать влажную осеннюю зыбь, зажигала огни на восковых столпах свечей, на железных грифах бра и в шелковых трубах напольных светильников.
Вероятно, Вера тоже боялась темноты, иначе зачем ей столько света?
И все равно его было слишком мало.
– Там ничего, кроме волос, нету… – Далматов остановился на пороге. – Зато волос слишком много. И по какому поводу иллюминация? Мило, конечно, но свечи явно лишние. Пожар нам не нужен…
Он задул рыжие огоньки, и каждая смерть – маленькая, но такая болезненная – была подобна уколу иглы. Сердце-подушка из красного плюша готово принять сотню игл. Саломея выдержит.
– Пожар. – Она вдруг испугалась.
Как не подумала, что пламя перепрыгнет на мебель? На скатерть? Огненный цветок способен подняться до небес, и однажды он отобрал у Саломеи дом.
– Пожара не будет, – Илья кинул на стол темный волосяной ком. – Не будет пожара. Слышишь?
Лампы мигают. Далматов не видит. Никто не видит, кроме Саломеи. Это саламандры пляшут меж металлических рожек, дергаются, получая удары током, и дарят свет. Но саламандрам надоест, и лампы выстрелят.
Бах. Бах. И дождь из стекла перед градом из ящериц.
– Ты взяла его с собой, верно? – Далматов сжал голову Саломеи и заставил посмотреть вверх, к потолку, где крутилось огненное колесо.
– Где он?
– Кто?
Сложно смотреть, когда свет ослепляет. А без света – зима. Зимой холодно, но в огне легко согреться. Далматову не понять. Он замерз и уже навсегда, еще раньше, и теперь только хуже.
– Где брегет? В вещах?
Саломею толкнули на кровать. Она села. Перед глазами роилась красно-синяя мошкара, а в ушах трещало. В кострах всегда трещат, разламываясь, поленья. И еще ветки. Шишки. Сосны плачут желтой смолой. А Далматов обыскивает вещи Саломеи. Это справедливо – око за око.
– Внизу, – подсказывает Саломея. – Но тебе трогать нельзя. Он мой.
– Твой.
– А ты хочешь украсть.
– Да неужели…
– Ты появился только сейчас, хотя мог бы и раньше. Заказ пришел?
– Точно.
Он вытащил черную коробку, которая разломалась надвое.
– Я тебя не виню. Ты же иначе не способен. Украсть вот. Или обмануть.
Единственный глаз саламандры сверкал зло, гневно. Он заставлял других ящериц, запертых в хрупкие коконы ламп, дергаться и рваться на свободу.
– Ясное дело, – Илья вытряхнул собственные вещи на пол, и кофр тоже.
В ящике обнаружилось двойное дно и футляр из черной кожи со знакомым рисунком рун. Брегет Далматов положил ящерицей вниз и прижал пальцем, точно желал раздавить ее, такую опасную и такую беспомощную. Потом что-то нажал, повернул, и футляр закрылся.
– Ты вообще о чем думала, когда вот это волокла? – Он потряс коробкой перед носом Саломеи. – Специалистка хренова.
– Сердишься?
Остывало медленно. Огонь никогда не отступает быстро. Даже когда пожар тушат, угли хранят тепло. Ее память – жирные куски угля.
Больно-то как.
– Нет. И да.
Он сел рядом и разлил остывший кофе по чашкам. Сахара пять ложек. Размешивал тщательно, сосредоточенно. А в остальном все в норме: жених и невеста, тили-тили-тесто. Проснулись и завтракают.
Проблема – одноглазая злая ящерка – надежно заперта в клетке. Только предыдущая клетка тоже казалась надежной. Далматов подумал о том же и поднял коробку. Он осматривал ее дотошно, и лупу из кармана извлек, современную, складную и потому неинтересную.
– Сломалась, – вынес вердикт Илья. – Ты пей давай. С ними ведь никогда не угадаешь, откуда ударят. Неделю назад я очнулся на крыше. Не люблю высоту. Боюсь. А тут – стою на краю, любуюсь панорамой… к счастью, телефон зазвонил. Повезло.
Саломея кивнула: повезло.
И ей тоже повезло не сгореть. Но теперь она боится огня. Самую малость. Но говорить об этом Далматову не станет. И вообще не станет говорить.
Холодный сладкий кофе – гадость редкостная. Не кофе – сироп с кофейным ароматом.
Надо. Глюкоза – полезна.
– Во всем этом деле совершенно никакого смысла, – Далматов поднял волосяной ком и понюхал. Скривился. – Но так не бывает.
Света вокруг все-таки слишком много. И такой резкий.
Зачем так много света? И светильников?
– А значит, я просто чего-то не вижу…
Потолок натяжной, гладкий и скользкий с виду. Два ряда галогеновых ламп. И тяжеленная трехрогая люстра с хрустальными подвесками. Не то. Потолок и люстра часть прежней комнаты. И канделябры. И светильники из золотистой проволоки… все не то.
– Вода. Ванна. Душ. И волосы… Там хороший слив. Но волос много выпадало. И здоровье слабое. Первое – следствие второго или наоборот?
Саломея прижала палец к губам: не надо мешать. Редко бывает, что запределье сдается, ну или хотя бы делает вид, подбрасывая очередную подсказку. Как в сказке – дорога из камешков-подсказок выведет из темного-темного леса. Или заведет поглубже в чащу.
Колонна из белой рисовой бумаги возвышалась на два метра и выглядела нерушимой. Плотной. Но у самой стены, в тени прорисовывалась тень иная. И Саломея подала знак Далматову.
– Смотри.
Он выдернул шнур из розетки и, пробив хрупкий бок, вытащил улов – стопку листов, перевязанную ленточкой.
– Ну надо же, до чего романтично.
Саломея молча отобрала находку и, сняв ленточку, раскрыла первое письмо.
Мой дорогой маленький ангел.
Словами не передать всех тех мучений, которые я испытываю ежедневно, ежечасно, видя тебя, но не смея ни взглядом, ни словом выдать своей любви.
Каждое утро, открывая глаза, я понимаю, что предстоит еще один ужасный день, и даю себе слово сознаться во всем, единым порывом измученной души разрушить не жизнь свою, но это убогое скотское существование. И я бегу в душ, чтобы очиститься телом, чтобы полностью подготовиться. И выхожу из душа, и открываю рот, готовый обрушить мир моей никчемной жены, но тут же его закрываю.