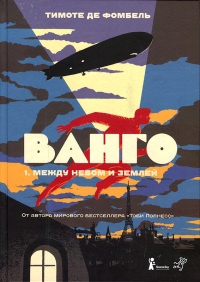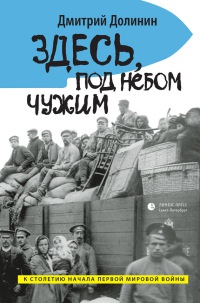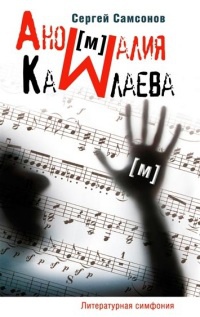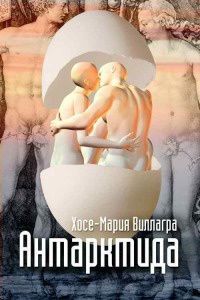Книга Держаться за землю - Сергей Самсонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отступил, и на место его тотчас встал Рябовол, морщась точно от рези в глазах и не в силах поднять головы, но уж тут делать нечего, надо, и, подняв терпеливо-страдальческий взгляд на людей, начал жать из себя в мегафон:
— Вот я мент, офицер МВД. Я давал Украине присягу. Беспрекословно выполнять приказы высшей власти. Подавлять беспорядки. Пресекать все призывы к разделу страны. И сейчас я вообще-то должен хлопнуть вот этих ребят, раз они завели разговор про республику. Но еще я поклялся защищать свой народ. В этом городе. Вас! И как мне быть, когда одно вообще исключает другое? Я живу тут двенадцатый год, а родился в Ростове. И что там, что вот здесь — половина фамилий на «о». А я сам Рябовол — чья фамилия? Так что я понимаю одно — что какая-то блядь всех нас стравливает, что зачем-то ей надо, чтобы мы тут сцепились и грызлись, как псы, Ивановы с Иванченками и Петровы с Петренками. У нас тут ничего еще не началось, а у меня уже башка отвертывается: кто кого начал первым месить и кого мне прикажете мордой в землю валить? Значит, надо и нам — ну ментам и вообще всем воякам по области — принимать чью-то сторону. А будем шататься, головами, как флюгер, крутить — и разнять никого не разнимем, и сами под замес попадем. Будет с нами, как с киевским «Беркутом»: ни туда ни сюда. Так что выбор такой: или я новой власти как собака служу, или я уже против нее. Ну и что эта власть говорит нам, дончанам? Ваше дело — работать, а наше — решать, как вам жить? Что идет от нее? «Москали недорезанные»? «Завтра с русскими будет война»? Мы войны не хотим — ни внутри, ни снаружи… В общем, так, — продолжал, словно камень из почки давил, — тут мой дом, огород и семья. Ну и вы тоже тут, всех вас знаю в лицо. И хорош бы я был, если б я допустил в Кумачов… ну, военных оттуда. И что бы это были за военные? Может, наши ребята, «Беркут» там или «Альфа», а быть может, и эти, правосеки, майдановцы, дикие. И чего бы они тут устроили? И поэтому я заявляю: если вы, Кумачов, за республику, то и мы, милицейский спецназ, за республику.
Каменевший в молчании люд загудел, покатил к остекленным берегам «Горняка» нарастающий вал одобрения, но все те, кто стоял рядом с Петькой, молчали — и Чугайнов со сверстником и дружком Пузырьком, и Негода, и Птуха, и братья Колесники, и стоявший за Ларкой Валек: ишь ты, как подгадал подкатить — как штамповочным прессом притиснуло, и не деться уже никуда друг от дружки. Зажатая мужицкой давкой Ларка застыла со знакомым брезгливым состраданием в лице — с тем выражением, с которым давно уже смотрела на Петра, а теперь и на всех мужиков, и немых, и ревущих в восторге бунтовского угара.
Половина народа молчала, не желая ни лезть на рожон, ни кричать о покорности как о спасении, но казалось: все тысячи извергают густой, слитный рев окончательной, бесповоротной решимости.
— …Да еще только месяц назад никто ни о какой республике не думал! — надсаживался Рябовол, теперь уже как будто бы стараясь погасить всеобщий накат возбуждения. — Молчали и ждали, пока эта мутная пена нацистская схлынет. И мы пока от Украины, повторяю, не отказываемся! Но только вот кажется мне, что они изначально этот суп и задумывали, который мы с вами хлебать не хотим. А если так, то надо проводить границу. Вы там пока побудьте со своим уставом, а мы здесь. Мы вам не доверяем и допускать на нашу землю не настроены.
За ним говорили другие: Горыня, Гурфинкель… но Петька, по сути, уже их не слушал: ему стало ясно, что город стал частью республики и что половина народа пойдет отсюда прямиком к бетонному аккумулятору администрации, чтобы вынести рыхлого Тестова из кабинета и поднять над своим Белым домом голубой флаг России. «Чудна наша жизнь, — думал он с каким-то полудетским изумлением и странной безучастностью, как будто смотрел на себя самого откуда-то сверху. — Вот мы никого еще с той стороны в глаза не видали, а знаем уже, что они людоеды. Ждем, как рыжих собак в сказке „Маугли“. А они нас — видали? Мы их еще не укусили, а они уже бешеные. Тоже первыми рвать нас готовы. Словно в каменном веке живем — верим, что, кроме нас, и людей больше нет на земле. Все, кто там, за рекой, уж не люди, а нечисть с клыками… Нет уж, в каменном веке мы пока бы в упор не сошлись, так и жили бы в полном неведении, что за люди живут вдалеке. Телевизор решает. Раньше вон у костра собирались и сказки друг другу про чудовищ рассказывали, а теперь в этот ящик все пялимся, и оттуда нам сказки — про нас же… Ну а какие мы в том телевизоре для них? Как только нас не называли: и жуки-колорады, и гумус, и вообще протоплазма. В керосин нас, в огонь, прополоть… Так, выходит, не только мы сами, но еще и они нас толкнули этот флаг на Донбассе поднять. И выходит, не сам человек и вообще весь народ свою жизнь как-то мыслит, а из этого ящика всем нам полощут мозги…»
А народ уж делился: одни кисельными ручьями растекались по домам; другие оставались ждать на площади, подтягиваясь к остекленному фасаду «Горняка» и густясь у него, словно пчелы у огромного улья, — записывались в кумачовскую дружину самообороны. Сенька Лихо с Андрюхой Хомухой полезли туда, в толкотню метляков у невидимой лампы, светившей среди белого дня, Пузырек и Никифорыч повернули домой, а вот Ларку с брательником он, Петро, потерял.
Постоял на растущем бетонном островке пустоты и пошел восвояси. Если что, записаться в дружину он успеет всегда, если что, то вот этого счастья, как говна, на всех хватит. А вот если вся шахта пойдет воевать, кто же в шахте останется? Вот об этом никто ничего не сказал — ни с балкона, ни снизу: жить-то как теперь будем, на что? Город, значит, признал власть народной республики, а над шахтой чья власть? Кто хозяин? Олигарх Заблудовский, ни разу не виданный, под таким же далеким олигархом Ахметовым? Те и раньше, по слухам, из Лондона не вылезали, а теперь уж и трубку, поди, не снимают, когда им звонят: что с шахтерами делать? Кто теперь будет людям платить, кто шалимовской материи — пенсию? Из чего эти деньги возьмутся? Уголька нарубить можно много, до неба, а вот кто обналичит его? Или что, все заводы — рабочим, все шахты — горбатым?
Петька вспомнил слова «рыбака» о шахтере, которого не худо бы поставить во главе их народной республики. «А вот если и вправду никого на Донбасс не пускать и свою сделать власть? Мы, шахтеры, и так, по укладу всей жизни, все равно что отдельный народ, мы свою землю вглубь, а не вширь только знаем и меряем, мы самой этой нашей землей ото всех и отрезаны, до покойника легче дорыться с поверхности, чем до нас, до живых. Ну и кто лучше нас знает цену такому труду? А то что же мы уголь грызем а другие решают, сколько нам получать за работу? В коммунизм я не верю; у меня самый высший в сетке грозов разряд, бандерлог я матерый и поэтому должен получать втрое больше человека с лопатой, не хватало еще нас, кормильцев, с недоразвитыми поравнять, но с сыночком какого-нибудь белокасочника поравнять не мешало бы: пусть он тоже лопатой помашет сперва. С уголька жить хотите — лезьте с нами под землю на семьсот метров вглубь или вон, как Гурфинкель, корпите над белым листом, на «Марии-Глубокой» женитесь и трахайтесь с ней. А выходит, под землю лезть никто не желает, а командовать нами на нашей земле — это запросто».
Так он думал, шагая в мелевшем, возбужденно гудевшем шахтерском потоке и на каждом шагу сам себя обрывая: шутка ли, на себя все взвалить, научиться самим торговать угольком, все давнишние связи порвать и по-новому их протянуть; это, милый, тебе не конвейер зачищать по задвижку, это, милый, не мальчиков в раму расстреливать, это долго придется без зарплат и пособий пожить, может быть, вообще на подножном корму, в коммунизме военном, как деды, и еще неизвестно, сможем мы вот такую республику выстроить или, как негритятам, Красный Крест с вертолетов будет нам подаяние сбрасывать. Так что, может быть, лучше ничего и не трогать, не ломать свою жизнь об колено?