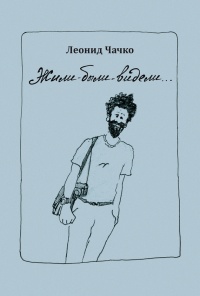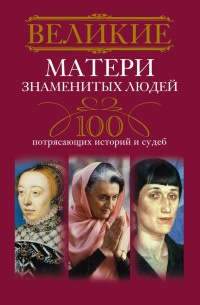Книга Цвет винограда. Юлия Оболенская, Константин Кандауров - Л. Алексеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Очень близким – из многих – был Волошину и еще один француз – поэт и прозаик Анри де Ренье, современник, о котором он не раз писал, которого переводил, упоминал в своих статьях об искусстве и поэзии. Творчество де Ренье поэт считал органическим сплавом Парнаса с символизмом, а самого писателя относил к числу светлых, гармоничных личностей – «пушкинского, рафаэлевского типа». Зная литературные пристрастия Оболенской, хорошо чувствуя в ней художника, он посылает ей только что вышедший свой перевод, «представ» в образе романтического героя.
«Утром получила книжку шедевров Максимилиана Александровича – “Маркиз д'Амеркер”», – сообщала Юлия Леонидовна Кандаурову 15 марта 1914-го. И в этом случае дарение означало доверие, приятие, влечение (со всеми возможными к слову приставками).
Любопытно, что об аналогичном подарке 1911 года – романе того же автора «Встречи господина де Брео» – вспоминала и Цветаева: «Макс всегда был под ударом какого-нибудь писателя, с которым уже тогда, живым или мертвым, ни на миг не расставался и которого внушал – всем. В данный час его жизни этим живым или мертвым был Анри де Ренье, которого он мне с первой встречи и подарил – как самое дорогое, очередное самое дорогое»[276].
На присланной в Петербург книге стояло: «Приезжайте в Коктебель, Юлия Леонидовна. Максимилиан Волошин 1914. 11/III»[277]. Художница появится там в самом начале мая, и ей будет вручена еще одна книга-пароль – французский перевод Новалиса, брюссельское издание 1895 года с надписью: «Юлии Леонидовне Оболенской 18 мая 1914 года Коктебель»[278].
«Не смей увлекать поэтов», – шутливо грозил Кандауров Оболенской перед ее отъездом, скрывая за этим вполне серьезные опасения: «Боюсь, что ты меня разлюбишь и я останусь опять один со своими думами»[279]. Тревожился, понимая, какое сильное эмоциональное и интеллектуальное влияние оказывает Волошин на его возлюбленную. И даже пытался тому воспрепятствовать, своим волнением явно сгущая краски в портрете друга: «Относительно Макса могу сказать, что он при всей своей доброте и без всякого желания сделать зло – делает много зла всем, кто проходит около него. Я много знаю примеров. Он умный, добрый, хороший и все же страшно жестокий человек, т. к. жизни не знает – идет мимо и все судит не сердцем, тем, что взял из книг. Он много себе подготовлял женщин, рабынь своего духа и тела, но все скоро проходило, и все женщины оказывались разбитыми надолго. По этому поводу скажу много при свидании. Вот один из примеров моего страха за тебя, моя голубка»[280].
Страхи исчезнут, как только Юлия Леонидовна, посвятив Волошина в свою тайну, устранит явные или неявные намеки и противоречия и станет самостоятельным и важным звеном в отношениях друзей. Ее письма многие годы по-настоящему будут сохранять и длить эту дружбу. Помня о «ревности» Кандаурова, она возьмет за правило сообщать ему о полученной корреспонденции. Но, передавая ее содержание, перекрестного цитирования избегала, дорожа личной интонацией, найденной для каждого из своих адресатов.
[2] мая 1914. Коктебель
Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову
‹…› В Феодосии меня встретили Максимилиан Александрович и Константин Федорович. Я хотела обругать Вас за то, что беспокоили Конст Фед, но так обрадовалась, увидев его, что не могу браниться. С вокзала проехали к Богаевским, а потом Макс Ал до 10 ч водил меня по Феодосии: в Карантин, в слободку, в музей и т. п. В 10 час привел к Александре Михайловне[281] и оставил с ней, потом пришли Марина Ив и Сережа Эфр и Конст Федорович забрал всех к себе обедать. Был удивительный день, жаркий и прозрачный, совершенно безоблачный. Часов в 5 или в 6 поехали в Коктебель. ‹…›[282]
Первая неделя мая. 1914. Коктебель
Ю. Л. Оболенская – К. В. Кандаурову
‹…› Уговаривались на этюды ходить вместе с М Ал, но кажется, мне придется отделиться, что-то меня при таких условиях связывает. ‹…›[283]
6 мая 1914. Москва
К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской
‹…› Как только устроюсь с костюмом и билетом, в тот же час выеду к вам. Ты там не смей увлекаться и увлекать, т. к. я тебя не уступлю – ты моя, и я твой. Не уступлю! ‹…›[284]
Романтическая настроенность Серебряного века в иное время может показаться чрезмерной или даже искусственной, литературной. И все же эти влюбленные в искусство «вечные юноши» действительно хранили в себе высокий строй души, а потому могли встать под пистолет из-за женщины, сходить с ума от любви или рыдать от счастья: «Твое письмо, написанное кровью, я хотел вынести на площадь и читать всем людям, чтобы они обновились и поняли настоящую жизнь. Ты не серчай на меня, дорогая. Я не в силах нести на себе такое счастье, счастье исключительное, счастье, выпадающее на долю редких и только избранных Богом. Я дал прочесть письмо Котику Богаевскому, и он разрыдался, как мальчик… Еле произнося слова, поздравлял меня, говоря: ты счастливый и не отталкивай благодать Бога!»[285].
Волошин, уехавший за границу после разгоревшегося в его доме «пожара сердец», вел себя сдержаннее («Могу только в глубине души молиться о Вас и Константине Васильев»), но глубоко сочувствуя Юлии Леонидовне, был уверен: «любовь вне собственности», «любить человека – делать его свободным». Иначе, но ситуация любви как несвободы проецировалась и на домашние обстоятельства самого поэта. «Я не знаю, как быть. Чувствую, что так жить совсем нельзя, нельзя доводить отношений до таких кризисов. ‹…› А издали думать о маме бесконечно грустно»[286], – писал он Оболенской в ноябре 1914-го.
«Получила вчера длинное письмо от Макс Ал, – тут же рассказывала Оболенская Кандаурову, – он пишет, что чувствует угрызения совести, узнав, что ты ждал его приезда, но говорит, что у него сознание бессилия помочь еще с лета. В Париж же едет разве к весне. Живопись тянет его все сильнее, а книга все затягивается, т. к., видимо, углубляются его взгляды на эти вещи отчасти под влиянием Штейнера, а кроме того, выразительность слова покидает его взамен нахлынувшей живописи. В связи с этим его тревожит мысль о матери, и он просит меня разрешить этот вопрос их отношений – Боже, что я могу! Я все вижу, правда, слишком ясно и люблю обоих, но разве людей переменишь? Он много пишет о России, войне, о постройке и т. п. Много верного и тонкого. Мне жаль терять в нем “литератора”; как живописец он возможен, но сколько труда впереди! А характер его мысли так роднит меня с ним. Неужели это уйдет?»[287].