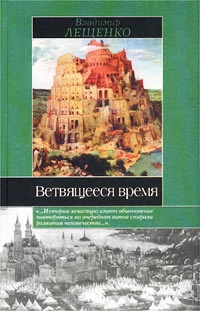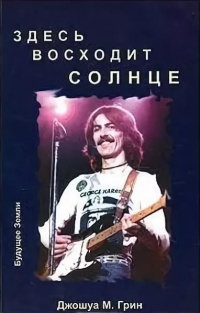Книга Страж - Джордж Доус Грин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дектера проводила его долгим взглядом, потом повернулась и заговорила так тихо, что мне пришлось наклониться к ней поближе, чтобы расслышать ее слова. У нее оказалось очень приятное дыхание.
— Ты его друг. Позаботься о нем вместо меня, потому что сама я этого сделать не могу.
— Хорошо.
В этот момент, если бы она меня попросила, я был готов встретиться лицом к лицу с псом Куллана и оторвать ему яйца.
Лицо ее стало серьезным.
— Есть много вещей, о которых он никогда не узнает, и есть много других вещей, о которых ему станет известно, но он не поймет их. Он считает, что все это имеет какое-то значение, но в конце концов ему станет ясно, что это совершенно неважно. Однажды он перестанет задавать вопросы и просто будет недоумевать. Я бы хотела, чтобы ты помог ему разобраться во всем.
У меня не было ни малейшего представления, о чем она говорит.
— Я готов выполнить любое ваше распоряжение.
И неважно, что я не имел представления, что это может быть за распоряжение. Ее лицо еще приблизилось ко мне. Губы были влажными и совсем близко от моих.
Она рассмеялась.
— Ты хороший человек, — сказала она, — хотя и делаешь все, чтобы это скрыть.
Она заглянула в мои глаза, и мое сердце вздрогнуло, словно румпель корабля, ударившегося о скалу. В комнату вернулся Кухулин. Наверное, мы выглядели немного подозрительно. Возможно, я даже пялился с пьяным вожделением на его мать. Он скривился и дернул головой.
— Пойдем. Скоро будет совсем темно. Нам нужно отправляться в путь.
— А разве вы не останетесь? Вам уже постелили.
Я закивал, как идиот, а потом увидел выражение лица Кухулина и начал чесать затылок, делая вид, что причина кивков скорее связана с наличием паразитов, чем с желанием выразить свое согласие. Дектера слегка пожала плечами и подошла к Кухулину.
— Спасибо тебе. В добрый путь.
Он стоял перед ней, вытянувшись и опустив руки. Она наклонилась и нежно потерлась щекой о его щеку. Я был уверен, что Кухулин бросится к ней в объятья, но он вовремя спохватился и его руки даже не поднялись.
— Ты приедешь снова, — сказала она.
Я не понял, было ли это приглашением или утверждением.
Когда мы отъезжали, я оглянулся и увидел, что Дектера стоит под аркой, венчавшей вход в замок, и машет рукой. Я поднял руку в прощальном жесте, при этом чуть не свалившись с колесницы. Кухулин недовольно шмыгнул носом, но оборачиваться не стал.
— Она прощается с нами и желает нам быстро добраться, — сказал я.
Он промолчал, уставясь в опускающиеся сумерки.
— Ну и хорошо, — наконец произнес он. — Не нужно мне было приезжать. Больше мы никогда с ней не увидимся. Кем бы ни был мой отец, он великий человек — все об этом говорят. Думаю, что этого мне вполне достаточно.
Я хотел что-то сказать, вернее, я много чего хотел сказать, но у меня хватило ума промолчать. Больше он никогда не упоминал о матери.
Оуэн не был величайшим на свете певцом, причем он сам так считал, а он скромностью не отличался. Те, кто разбирались в подобных вещах, уверяли меня, что его игра на арфе примечательна скорее своим энтузиазмом, чем изысканностью, а я могу со всей ответственностью подтвердить тот факт, что арфа — это не тот инструмент, на котором можно играть с удовольствием. Люди, которые его слушали, делали это совсем по другим причинам. Он отличался великолепной памятью, что чрезвычайно важно, если приходится петь одну песнь в течение нескольких часов, не пользуясь записями, и, кроме того, он просто обожал рассказывать истории. А людям это нравилось. Некоторые барды становились рассказчиками только потому, что им нравилось слышать звук собственного голоса. Другие жаждали одобрительных возгласов и внимания слушателей. Оуэн же занимался этим потому, что отличался неизбывным любопытством и обожал сплетни. Он запоминал все, что ему говорили, и вплетал полученные сведения в истории, которые слышал раньше, добавлял немного выдумки, и в результате получался рассказ, достойный быть услышанным.
Я поразился, узнав, что у ольстерцев нет историков, по крайней мере в том смысле, в каком я понимал это слово, то есть летописцев, старавшихся изложить факты как можно ближе к истине. Ольстерцы вообще ничего не записывали, если не считать родословных своих королей, составленных с помощью огамических знаков, а разница между латынью и огамическим письмом — это то же самое, что и разница между покупкой овощей и их выращиванием. Оуэн и ему подобные были ольстерским аналогом историков. Иными словами, Оуэн фиксировал исторические события, но не так, как они на самом деле происходили, а, скорее так, как они должны были происходить по его мнению. Факты были тем скелетом, на котором он строил свои истории, но он рассматривал их как нечто такое, что можно было включать в свои рассказы, искажать или вообще игнорировать — по собственному усмотрению. Частенько после пары кубков вина я здорово расстраивался и выказывал недовольство этим обстоятельством.
— Это неправильно, безнравственно, это вранье, это…
— К чему такая напыщенность?
— А к тому, что…
Я не знал, что ответить. Вообще-то я должен кое в чем признаться — мне известно, что многие римские историки просто-напросто выдумывали то, что писали, или беззастенчиво приукрашивали известные им факты. Сам Гомер придумывал истории. Наверное, тот факт, что у ольстерцев ничего не записывалось, заставлял меня трепетнее относиться к правде. Я часто давал себе слово относиться с большим терпением к Оуэну, но иногда мысль о том, что мой приятель отвечает за написание истории своего народа, выводила меня из себя. В таких случаях я начинал орать, а Оуэн терпеливо пережидал, пока я выдохнусь. Подозреваю, что это устраивало нас обоих. Он думал, что я и так немного не в себе, поэтому для него было очевидно, почему я его не понимаю. Причем, я действительно не понимал.
Он спросил меня, чем же мы занимаемся в Риме, если не слушаем бардов.
— Собственно говоря, мы их как раз слушаем, у нас действительно есть барды, в определенном смысле, но они не рассказывают истории. Раньше рассказывали, но теперь больше не рассказывают.
— Тогда кто рассказывает ваши истории?
Я на минуту задумался.
— Наверное, наши писатели. Все истории мы узнаем из книг.
Я уже раньше рассказывал ему о книгах. Никакого смысла он в них не увидел. Наверное, считал, что в книгах один обман.
— И ваши барды не поют?
— Почему, поют, но не о битвах, героях и великих подвигах. Это занятие для историков и драматургов. Бардов больше волнует любовь и то, как печально находиться вдали от дома.
Оуэн явно был невысокого мнения о такого рода бардах.
— И что, люди это слушают?
— Ну, не совсем слушают, по крайней мере не так, как слушают здесь. Чаще барды просто играют где-нибудь на заднем плане, пока гости за трапезой рассказывают свои истории.