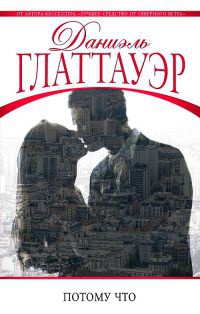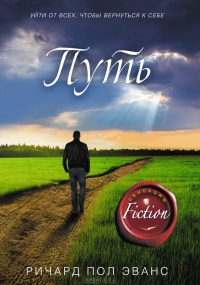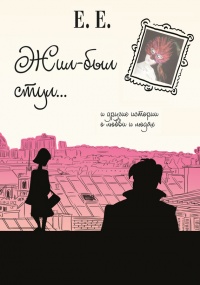Книга Светило малое для освещения ночи - Авигея Бархоленко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Лушка дождалась, пока сестра отложит историю в сторону.
— Мне нужно поговорить с главврачом, — настойчиво повторила она и, стараясь быть убедительной для перечеркнутого решеткой человека, добавила: — Пожалуйста.
— Завтра, — не глядя на бритую девку, ответила сестра. — Завтра будет обход.
— Нет, — не согласилась Лушка. — Скажите ему. Его нет в кабинете. Он где-то…
— Олег Олегович занят, — заученно сказала сестра.
— Ничем он не занят, — опровергла Лушка. — Потому что читает «Фаворита».
Дежурная взяла следующую пачку анализов. Она профессионально не вступала в пререкания с душевнобольными.
Сжав решетку, отделяющую один безумный мир от другого, Лушка ждала.
* * *
Псих-президент в своем убежище отложил книгу. Интересно, но утомляет. Прошлые люди слишком однолинейны.
Псих-президент поднялся с дивана. В последнее время ему стало не хватать окна. Лет десять назад он посчитал отсутствие окна достоинством — территория для убежища была отрезана от соседнего помещения. Он тогда распорядился оборудовать туалет и душ, и до сих пор доволен, что то и другое принадлежит только ему, — никто, кроме уборщицы, не переступал порога этих кабин, и ничья рука не изобразила на девственной стене ни одного иероглифа подручными средствами. Он тогда и затеял эту перестройку, чтобы иметь индивидуальный сортир, а уж диван и происходящее на нем имели срединное значение.
Олег Олегович зашел в идеально чистый туалет. Это место он любил больше всех прочих на земле. Здесь его никогда не мучили запоры. И ни одна баба не осквернила его своими выделениями. Туалет бы верен псих-президенту больше собаки.
Когда-то давно он собирался написать статью о советских уборных — они казались ему наиболее легко открывающимся клапаном, через который искореженное человеческое подсознание вылезало на волю: заставляло же что-то безымянных авторов испещрять стены тремя лаконичными буквами, или карябать чьи-то имена измазанным калом пальцами, или дырявить мочой девственный снег, сообщая о своей любви, — когда-то псих-президент посчитал, что во всем этом оживает животный ритуал столбления территории и самцовская игра воображаемыми мускулами. Жаль, надо было эту статью закончить, но запал после убежища отчего-то увял.
Олег Олегович вошел в кабинет. Дверь в убежище драпировалась шкафом — не из расчетов конспирации, а чтобы посторонние взгляды не прикасались к убежищу — псих-президент брезговал человечеством.
Он бесцельно походил по кабинету, тяготея к той двери, которая вела к дежурной сестре, и, прикрыв ее, отметил нарочито безразличное лицо медсестры Наты и стискивающие решетку суставчатые Лушкины пальцы.
— Ждет больше часа, — кратко ответила Ната на шефский взгляд.
Ната смотрела четко, как солдат. Одежда была индифферентной, как походное снаряжение. Одежда парализовала иные взгляды, кроме служебных. Если бы медсестру Нату подвергнуть Божьему суду, она крикнула бы, что ни разу в жизни не была в президентском убежище, и после этой лжи огонь бы не обжег и вода не утопила.
Псих-президент смотрел на нее с недоумением. Она всякий раз честно выдерживала взгляд и ждала служебных распоряжений.
Уволить бы, подумал псих-президент. А не за что. И повернулся к Лушке.
— Что у тебя, Гришина?
— Олег Олегович… — Лушкины пальцы побелели еще сильнее. — Отпустите меня!
— Куда? — преувеличенно удивился псих-президент.
— Я хочу… Мне похоронить… — Лицо врезалось в решетку, охватывая мякотью чугунные стержни, и на миг псих-президенту показалось, что Лушка прорежется сквозь, как тесто, а потом обволочет следующие препятствия и втянется навстречу сквозняку в дверную щель. — Я хочу похоронить!
— Нет, Гришина, — холодно проговорил псих-президент. — Я, естественно, тебя не отпущу. Помимо прочего — для твоей же пользы.
— Я вернусь! — поклялось в Лушке всё, и псих-президент подумал, что в человеке слишком много самостоятельных частей.
— Успокойся, Гришина, — миролюбиво проговорил он. — Его давно похоронили.
Псих-президент постарался быть убедительным. Лушка смотрела в него не мигая. Олег Олегович надел на себя убеждающее лицо. Лушка хотела поверить. Хотела чем-то успокоиться. Олег Олегович напомнил себе, что пора изобразить сочувствие.
— Мне жаль, Гришина, мне очень жаль… — Гм, что же мне жаль? — Как мать, ты должна присутствовать лично, гм… Но ты же понимаешь, там не могли ждать. Там всё сделано как надо. Когда выпишешься, тебе расскажут. И покажут, конечно… — Она смотрела, смотрела, смотрела… И он добавил: — Если желаешь, я могу…
— Да! — крикнула она.
— Я хотел сказать — могу позвонить и навести справки.
— Да! Да! — закричало в ней всё.
Он кивнул, подтверждая. Он обещает. Он мужчина и выполнят то, что обещал. А она должна успокоиться и отдохнуть. Лучше будет, если она вернется в палату.
Она долго стояла, держась за решетку и вслушиваясь в отзвучавшие слова. Слова были правильные и пустые. Она растерянно ждала самою себя. Ей нужно поверить. Она приучит себя к надежде. Там сделали как надо. Конечно, сделали. У них есть правила. Конечно, есть. Она выйдет и всё узнает. Конечно, узнает.
Рядом оказалась Марья. Марья взяла ее за плечи и сказала:
— Пойдем.
Идти было некуда, но Лушка пошла.
* * *
Местом жизни была кровать. На ней можно было лежать, сидеть и принимать гостей. Впрочем, дневное пребывание на кровати не поощрялось. Тетка с повязкой из красного воротника, узурпировавшая с одобрения начальства функции дневальной, ревизовала палаты, громогласно выдворяя лентяев в холл, но, поскольку появлялась она с единожды заведенной и предсказуемой последовательностью, выдворенные, дождавшись перехода краснознаменной бабы к соседям, тут же возвращались в свои владения, ценность которых от такой опасности весьма повышалась — казенные койки возносились до отрадной категории дефицита. Лушку после первого с ней столкновения дневальная не замечала, смотрела как сквозь стекло, а если на Лушкиной кровати сидела Марья, то и Марья становилась невидимой.
— Ну, вот что, — решительно сказала Марья, насмотревшись на Лушку, молча скорчившуюся на половине кровати. — Если не хочешь спятить, нужно чем-то заняться.
Лушка не отреагировала. Она смотрела на зарешеченное окно, за которым жил серый городской смог, а в нижнем углу иногда показывалась засылаемая ветром голая ветка с засохшей ягодой. Ветка без ствола была на что-то похожа. На что-то такое, что имело отношение к Лушке. И если бы это понять, то стало бы правильно и без проблем.
Ветер дунул с другой стороны. Ветка скрылась. Понимать стало нечего.
— Я английский знаю, — вела свое Марья, не желая замечать отъединенности. — А хочешь — немецкий, с ним у меня хуже, но для начала хватит. Я из шефа учебник вытрясу. Да и вообще можешь школу закончить — ей-богу, устрою. Хочешь? Ты слышишь, что говорю? Слышишь или нет?