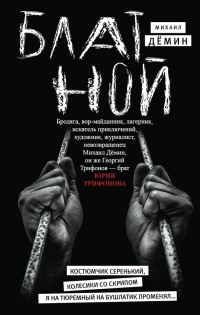Книга Народ лагерей - Иштван Эркень
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Танец ладный, но уж больно короткий. Репетировали, должно быть, час, когда Хорват заявил: «Ну а теперь быстрый!» Для быстрого ведь тоже подходящая музыка требуется, и скрипач опять было сунулся со своей «Чахлой пшеницей»: всем, мол, нравится, но старик Хорват решительно отмахнулся. «А ну ее к лешему! — сказал. — Эта сюда не годится». Все и сами видели, что не годится, но где другую взять?
Вот тут и смолкли мы, мадьяры, надолго. Потом художник неуверенно так говорит, что вертится у него в голове один мотивчик… может, подойдет? В детстве жил он в сельской местности, но как шесть лет ему исполнилось, семья перебралась оттуда. Однако песенку эту он запомнил, под нее детишки в «ручеек» играли.
Борча, Борча, любушка моя,
Загляделся в твои очи я.
Знай: в тебя я до смерти влюбился,
Радости, покоя, сна лишился.
От фиалок все синё,
Борча, выгляни в окно,
Покажись во всей красе,
Будто роза по росе.
За руки возьмемся,
Низехонько пригнемся,
Дружно повернемся,
Обратно потечем.
Песенка понравилась остальным, Хорват и скрипач тоже одобрили. Ну а через две недели она и вовсе снискала всеобщее одобрение: понравилась и венграм, и румынам, и русским, и даже немцам, хотя «что с них взять, с глухой нации этой, им медведь на ухо наступил», — как с легким пренебрежением заметил Хорват. Но недели две все до единого, даже «глухие немцы», напевали нашу «Борчу»… Трудно сказать, чем именно полюбилась людям эта простенькая венгерская песенка. Может, как раз тем, что простенькая и венгерская?
Когда строились Фивы, высокую стену вокруг города возводили два брата-близнеца, Зет и Амфион. Зет в поте лица, с недовольством носил и складывал камни, а Амфион сидел и играл на кифаре. И звуками кифары приводил камни в движение и заставлял их ложиться в нужном порядке. Музыка, мелодия способны творить чудеса.
Без песни труд — мука мученическая. Мы уже видели, как расходилось от труда кругами и ширилось пестование прекрасного. Стоило только небольшой кучке людей проявить инициативу, как ее с радостью и азартом подхватывали остальные, и круг участников рос день ото дня. Культура плена — коллективная культура. Общее дело или того больше: общий интерес.
Неделю пребывали в предвкушении очередного выступления, а потом целую неделю обсуждали увиденное. Критиковали, отмечали недостатки, вносили поправки и предложения. Артистов судили с такой же строгостью, как поваров.
Не следует толковать превратно, мы не собираемся петь хвалебные гимны. Никто не станет утверждать, будто бы во время Второй мировой войны в советском плену расцвела особая, самостоятельная венгерская культура. Рождались отдельные песни, мелодии, но эти разрозненные цветы не соединялись в букет, создавались стихи и пьесы «по случаю», но шедевров не появилось ни единого. На сей раз даже Геза Дёни[17]не предавался тоске в Красноярске. Была война, молчали музы. Но слушатели и читатели просили слова, а на сцену — в порядке исключения — выходили даже зрители.
Рабочие с кирпичного завода писали стихи, ткачи сочиняли комедии, крестьяне подбирали к ним музыку. Конечно, культурой в полном смысле слова это не назовешь, но это устремление и потребность. Твердое устремление и все возрастающая потребность — два плода, вызревшие в плену. Не знаю, много это или мало, но плод это крепкий и здоровый, а из семян его, быть может, пробьются ростки лучшего мира.
Когда мы опрашивали своих товарищей по несчастью — интеллигентов, рабочих и крестьян, — знают ли они, кто такие Ади, Аттила Йожеф и Барток, мы задали и такой вопрос: какую книгу им хотелось бы прочесть? О чем следует писать сочинителям?
Интересно, что из двадцати четырех опрошенных половине хотелось бы прочесть о событиях последних пяти лет. «Этакую уйму людей на бойню погнать — тут вам не шутки», — высказался Лайош Чери, каменщик. Миклош Печи тоже желает узнать «правду»: что и почему произошло с ним. «Любовь меня не волнует, кино тоже. Узнать бы, что происходило за кулисами». Это слова не какого-нибудь там разочарованного политика, а молодого помощника ювелира.
Читать о любви захотели только двое, оба интеллигенты: один — служащий, а другой — высокообразованный юрист, доктор Ференц Ковач. Последний добавил: «Военной темы лучше не касаться, пока не забудется этот кошмар…» Похоже, растревоженная совесть интеллигенции жаждет забвения.
Но есть и такие, кого интересует будущее. «Сколько книжек понаписано, а что толку? Хоть бы кто написал, что нас ожидает!» — сказал Дюла Касса, земледелец из Прибалатонья. «Описать тяготы прошлого, а главное, рассказать, что с нами будет!» — требует Ласло Керестури. Предыдущие двенадцать человек призывали к ответу прошлое. Пятерым хотелось бы заглянуть в будущее. Семнадцать человек желают одного и того же: исторической правды.
Остаются четверо; этим желательно прочесть о труде. «К примеру, пройдитесь по городу, посмотрите, как живут люди. Хорошую книгу можно написать об этом! Вот и пишите о труде!» — заявляет металлист Ласло Тараи. Шандор Паал, паренек с Большой венгерской низменности, дает такой наказ: «Описали бы, как живется людям в нашем привольном степном краю да на хуторах. Чем питается народ, как трудится. Пусть книга будет понятна тому, о ком она написана. Напишите книгу про нас, такую каждый прочтет».
Стремление и потребность — было сказано выше. Нужны ли еще доказательства? Двадцать человек из двадцати требуют правдивой, честной литературы. Двадцать человек из тех миллионов, кого лишили земли, равно как и культуры. Теперь они наконец-то получили право на то и на другое. Кто знает этих людей, не усомнится: с тем же тщанием, с каким обрабатывают полученный надел, они вспашут и духовную целину.
Лагерная жизнь обделила пленных пьянящим ощущением праздника. Стоит вспомнить прошлое, и стаканами хлебай молодое вино на торжестве в честь сбора винограда, а взамен новой любви достаточно воскресить в душе прежнее увлечение. Правда, воспоминания эти подувяли, словно прихваченные морозцем, однако способны вновь расцвести одно за другим. Они становятся ярче, близкая женщина — краше, любовь — прекраснее и счастливее, а мускат — и дешевле, и слаще. Цыган-примаш Макай сформулировал эти чувства кратко и точно: «Господи, какими же идиотами мы были!»
Идиотами мы были потому, что — если признать правоту Макай — «дома мы ходили, повесив нос, вместо того чтобы прилюдно приплясывать на одной ноге». Ведь жили не тужили, все-то у нас было, необходимое для счастья: свой небольшой дом, два кабанчика на откорм да милая, добрая женушка.
Сроду не были столь прекрасны мадьярки, как сейчас, в благодарной памяти пленных. Дядюшка Лаци Чонтош не только изменял жене, но и поколачивал ее; перед нами же отзывался о ней как о «заботливой и внимательной», «верной и преданной до гроба», а уж «как улыбнется, и вовсе краше нее не сыскать в целом свете». И тут дядюшка Лаци не одинок: для каждого возлюбленная сделалась прекраснее и чище, какую из венгерских женщин ни возьми — сплошь одни Беатриче.