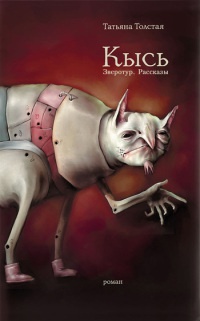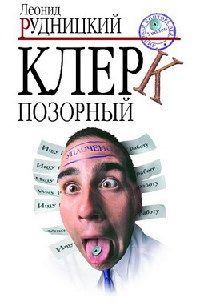Книга Не кысь - Татьяна Толстая
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Гриша замолчал и недели две ходил тихий и послушный. А потом даже повеселел, пел в ванной, смеялся, только совсем ничего не ел и все время подходил к зеркалу и себя ощупывал. «Что это ты такой веселый?» – допрашивала Нина. Он открыл и показал ей паспорт, где голубое поле было припечатано толстым лиловым штампом: «Захоронению не подлежит». «Что это такое?» – испугалась Нина. И Гришуня опять смеялся и сказал, что продал свой скелет за шестьдесят рублей Академии наук, что он свой прах переживет и тленья убежит, что он не будет, как опасался, лежать в сырой земле, а будет стоять среди людей в чистом, теплом зале, прошнурованный и пронумерованный, и студенты – веселый народ – будут хлопать его по плечу, щелкать по лбу и угощать папироской; вот как он хорошо все придумал. И больше ничего не рассказал в ответ на Нинины крики, а предложил лечь спать, но только пусть она учтет, что отныне она обнимает государственную собственность и несет материальную ответственность перед лицом закона на сумму шестьдесят рублей двадцать пять копеек.
И вот с этого момента, говорила потом Нина, любовь их как-то пошла наперекосяк, потому что не могла же она пылать полноценной страстью к общественному достоянию и целовать академический инвентарь. Ничто в нем больше ей не принадлежало.
И подумайте, какие чувства должна была пережить она, прекрасная, обычная женщина, врач, безусловно заслужившая, как и все, свой ломтик в жизни, – женщина, боровшаяся, как нас всех учили, за личное счастье, обретшая, можно сказать, свое право в борьбе?
Но несмотря на все горе, что он ей причинил, все-таки у нее осталось, говорила она, очень светлое чувство. А если любовь получилась не такая, как мечталось, то уж не Нина в том виновата. Виновата жизнь. И после его смерти она очень переживала, и подруги ей сочувствовали, и на работе пошли навстречу и дали десять дней за свой счет. И когда все процедуры были позади, Нина ездила по гостям и рассказывала, что Гриша теперь стоит во флигельке как учебное пособие, и ему прибили инвентарный номер, и она уже ходила смотреть. Ночью он в шкафу, а так все время с людьми.
И еще Нина говорила, что сначала очень расстраивалась из-за всего, но потом ничего, успокоилась, после того как одна женщина, тоже очень симпатичная и у которой тоже муж умер, рассказала ей, что она, например, в общем-то, даже довольна. Дело в том, что у этой женщины двухкомнатная квартира, а она всегда хотела одну комнату оформить в русском стиле, так, чтобы посредине только стол и больше ничего, а по бокам все лавки, лавки, совсем простые, неструганые. И стены все увешать всякими там лаптями, иконами, серпами, прялками – ну, всем таким. И вот теперь, когда у нее одна комната освободилась, эта женщина будто так и сделала, и это у нее столовая, и гости очень хвалят.
Интересно, где теперь безумная Светлана по прозвищу Пипка, та, про которую одни с беспечностью молодости говорили: «Да разве Пипка – человек?», а другие возмущались: «Что вы ее к себе пускаете? Книги бы поберегли! Она же все растащит!» Нет, они были не правы: всего-то и числится на Пипкиной совести, что светло-синий Сименон да белая шерстяная кофточка с вязаными пуговичками, да и у той локоть был уже штопаный. И бог с ней, с кофточкой! Куда большие ценности улетучились с той поры: Риммина сияющая молодость, детство ее детей, свежесть надежд, голубых, как утреннее небо; тайное, радостное доверие, с каким Римма вслушивалась в шептавший для нее одной голос будущего – уж какие только венки, цветы, острова и радуги ей не были обещаны, и где все это? А кофточку не жаль, Римма сама силком всунула Светлану в эту мало нужную кофточку, когда выталкивала ее, безумную, как всегда полураздетую, в осеннее бушевание, в холодную, мотавшую ветвями московскую полночь. Римма, уже в ночной рубашке, нетерпеливо переминалась на пороге, поджимая зябнущие ноги, поспешно кивала, наступая, выпроваживая Светлану, а та все пыталась что-то договорить, досказать – с нервным хохотком, с быстрым пожиманием плеч, и на белом и миловидном ее лице безумным провалом горели черные глаза, и мокрый провал рта бубнил торопливым трепетом, – ужасный черный рот, где пеньки зубов наводили на мысли о застарелом пожарище. Римма наступала, отвоевывая пядь за пядью, а Светлана говорила-говорила, говорила-говорила, махая во все стороны руками, будто делая зарядку – позднюю, ночную, невозможную, и тут, изображая огромный размер чего-то, – а Римма не слушала, – так размахнулась, что разбила костяшки пальцев о стенку и на мгновение удивленно замолчала, прижав солоноватые суставы к губам, к опаленному бессвязными речами рту. В этот момент и была ей сунута вязаная кофточка: в такси согреешься, – дверь хлопнула, и Римма, досадуя и смеясь, побежала к Феде под теплое одеяло. «Насилу выпроводила». Дети ворочались во сне. Завтра рано вставать. «Ну и оставила бы ее ночевать», – бормотал Федя сквозь сон, сквозь тепло, и очень он был красивый в красном свете ночника. Ночевать? Вот уж никогда! И где? В комнате старичка Ашкенази? Старичок все ворочался у себя на прохудившемся диване, курил густое и вонючее, кашлял, среди ночи ходил на кухню попить воды из-под крана, но, в общем ничего, не раздражал. Когда собирались гости, одалживал стулья, выносил баночку маринованных грибков, детям отклеивал колтун слипшихся леденцов из жестянки; его сажали за стол, с краю, и он посмеивался, болтал ногами, не достававшими до пола, покуривал в кулачок: «Ничего, молодежь, терпите: скоро помру, вся квартира ваша будет». – «Живите до ста лет, Давид Данилыч», – успокаивала Римма, а все-таки приятно было помечтать о том времени, когда она станет хозяйкой целой квартиры, не коммунальной, собственной, сделает большой ремонт, нелепую пятиугольную кухню покроет сверху донизу кафелем и плиту сменит. Федя защитит диссертацию, дети пойдут в школу, английский, музыка, фигурное катание… ну что бы еще представить? Им многие заранее завидовали. Но, конечно, не кафель, не хорошо развитые дети сияли из просторов будущего цветным радужным огнем, искристой аркой бешеного восторга (и Римма честно желала старичку Ашкенази долгих лет жизни: все успеется); нет, что-то большее, что-то совсем другое, важное, тревожное и великое шумело и сверкало впереди, будто Риммин челн, плывущий темной протокой сквозь зацветающие камыши, вот-вот должно было вынести в зеленый, счастливый, бушующий океан.
А пока жизнь шла не совсем настоящая, жизнь в ожидании, жизнь на чемоданах, небрежная, легкая – с кучей хлама в коридоре, с полуночными гостями: Петюня в небесном галстуке, бездетные Эля с Алешей, еще кто-то; с ночными Пипкиными визитами и дикими ее разговорами. Уж на что она была страшна, Пипка, с этими черными озубышами, а ведь многим нравилась, и часто к концу веселого вечера одного из мужчин не досчитывались: Пипка под шумок увозила его – всегда на такси – к себе в Перловку. Там она ютилась, снимала по дешевке деревянную хибарку с палисадничком. Римма одно время даже опасалась за Федю – он был легкомысленным, а Пипка – сумасшедшей и способной на все. Если бы не эти гнильцы в ее торопливом рту, впору было бы призадуматься и не пускать ее в семейный дом. Тем более что Федя загадочно говаривал: «Если бы Светланка не разевала рта, с ней можно было бы и поболтать!..» И вечно-то она дрожала, полуодетая, или одетая не с того конца: на босу ногу – детские задубелые ботиночки среди зимы, руки – красные, в цыпках.