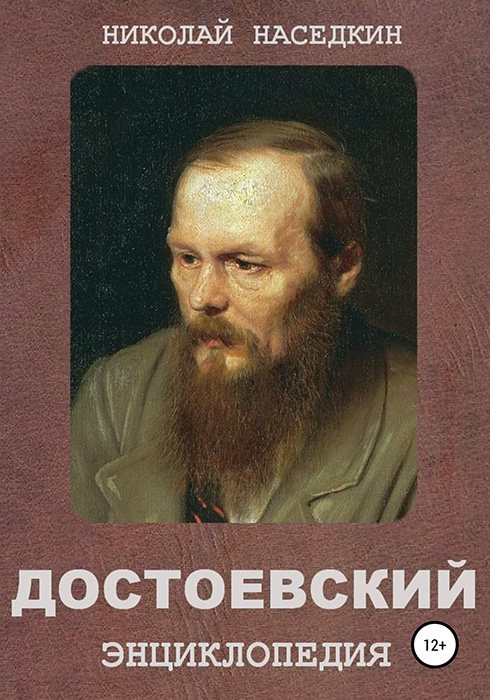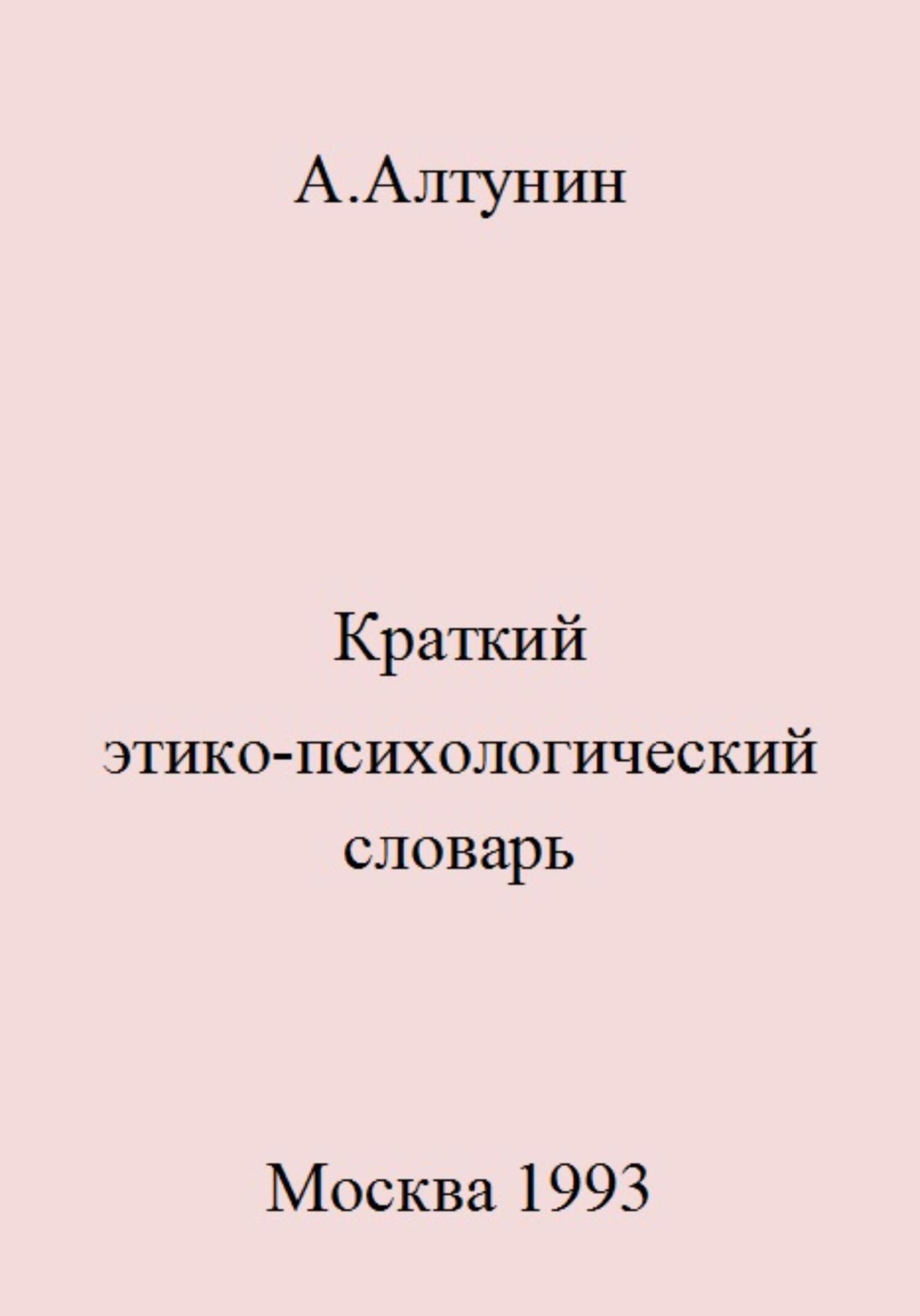Книга Достоевский in love - Алекс Кристофи
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь: написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах[339]. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей. Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли[340].
Глава 8
Игрок
1866–1867
Стелловский беспокоит меня до мучения, даже вижу во сне[341]. Сентябрь подходил к концу, а Федор так и не начал работу над новым романом. Это означало, что на написание его остался только месяц – иначе все его прошлые и будущие работы будут потеряны.
Первого октября, в праздник Покрова Богородицы, Федор написал своему другу Милюкову с просьбой навестить его после 9 вечера, когда можно будет прокрасться к нему без опасения нарваться на кредиторов. Милюков нашел Федора в отчаянии расхаживающим по комнате.
– Что вы такой мрачный? – спросил Милюков[342].
– Будешь мрачен, когда совсем пропадаешь! – отвечал Достоевский, не переставая шагать взад и вперед.
– Как! Что такое?
– Да знаете вы мой контракт с Стелловским?
– О контракте вы мне говорили, но подробностей не знаю.
– Так вот посмотрите, – и он достал из ящика стола договор и передал его Милюкову, который принялся читать, пока Федор продолжал свои лихорадочные перемещения по комнате.
– Много у вас написано нового романа? – спросил Милюков.
Достоевский остановился, резко развел руками:
– Ни одной строки!
Милюков был видимо потрясен.
– Понимаете теперь, отчего я пропадаю? – сказал Достоевский желчно.
– Но как же быть? Ведь надобно что-нибудь делать!
– А что же делать, когда остается один месяц до срока. Летом для «Русского вестника» писал, да написанное должен был переделывать, а теперь уж поздно: в четыре недели десяти больших листов не одолеешь.
Оба замолчали. Милюков присел к столу, а Федор заходил опять по комнате.
– Послушайте, – заговорил наконец Милюков после долгого молчания, – нельзя же вам себя навсегда закабалить; надобно найти какой-нибудь выход из этого положения.
– Какой тут выход! Я никакого не вижу.
– Знаете что, – продолжал друг, – вы, кажется, писали мне из Москвы, что у вас есть уже готовый план романа?
– Ну, есть, да ведь я вам говорю, что до сих пор не написано ни строчки.
– А не хотите ли вот что сделать: соберемте теперь же нескольких наших приятелей, вы расскажете нам сюжет романа, мы наметим его отделы, разделим по главам и напишем общими силами. Я уверен, что никто не откажется. Потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия. В сотрудничестве можно будет успеть к сроку: вы отдадите роман Стелловскому и вырветесь из неволи. Если же вам своего сюжета жаль на такую жертву, придумаем что-нибудь новое.
– Нет, – отвечал он решительно, – я никогда не подпишу своего имени под чужой работой.
– Ну так возьмите стенографа и сами продиктуйте весь роман: я думаю, в месяц успеете кончить.
Достоевский задумался, прошелся опять по комнате и сказал:
– Это другое дело… Я никогда еще не диктовал своих сочинений, но попробовать можно… Да, другого средства нет, не удастся – так пропал… Спасибо вам: необходимо это сделать, хоть и не знаю, сумею ли… Но где стенографа взять? Есть у вас знакомый?
– Нет, но найти не трудно.
– Найдите, найдите, только скорее.
– Завтра же похлопочу.
Так и вышло, что 4 октября 1866 года в 11.28 утра (Федор наказал «не ранее и не позднее» 11.30) двадцатилетняя стенографистка Анна Григорьевна Сниткина позвонила в дверь квартиры 13 дома Алонкина в Столярном переулке. Когда горничная открыла дверь и пригласила ее в комнату, оказавшуюся столовой, Федор бродил по квартире с взлохмаченными волосами, с распахнутой грудью и в домашних туфлях. Встретившись глазами с выпускницей стенографических курсов Ольхина, стоявшей в дверях в башлыке, с карандашами и портфельчиком в руках, он вскрикнул от стыда и скрылся за дверью.
Федор застегнул рубашку, накинул старый синий пиджак, расчесал волосы и попросил принести в кабинет крепкий черный чай. (Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить[343].) Было крайне странно находиться в кабинете наедине с молодой женщиной. Она сидела на потрепанной коричневой софе и изучала пару больших китайских ваз, которые он привез из Сибири. Он предложил ей сигарету; она отказалась. Он уверил ее, что нет нужды соблюдать условности. Она ответила, что не курит. Он посмотрел в ее чистые серые глаза, полные ожидания. Она посмотрела в его левый карий и правый черный глаза. Правый он повредил во время одного из эпилептических припадков, и врачи назначили ему атропин, экстракт смертоносной белладонны, который расширял зрачок настолько, что радужка полностью исчезала. Федор сразу объяснил про эпилепсию, добавив, что недавно перенес очередной припадок. Он не был уверен, что идея со стенографисткой действительно сработает. Он всегда работал в одиночестве, поздно вечером, царапая строчку за строчкой.
– Хорошо, попробуем, – сказала она, – но если вам при моей помощи работать будет неудобно, то прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится[344].
– Как вас зовут? – спросил он.
– Анна.
Он забыл ее имя, едва услышав. Не зная толком, как начать, взял в руки выпуск «Русского вестника» и надиктовал абзац, чтобы проверить ее скорость. Когда она старательно переводила скоропись в обыкновенное письмо, ужаснулся, что медленно (– Да ведь переписывать продиктованное я буду дома, а не здесь, – успокоила его она.) Потом заметил, что она пропустила ударение и точку. Долгое время ходил по комнате, принимая решение, пока она сидела замершим кроликом. Наконец заявил,