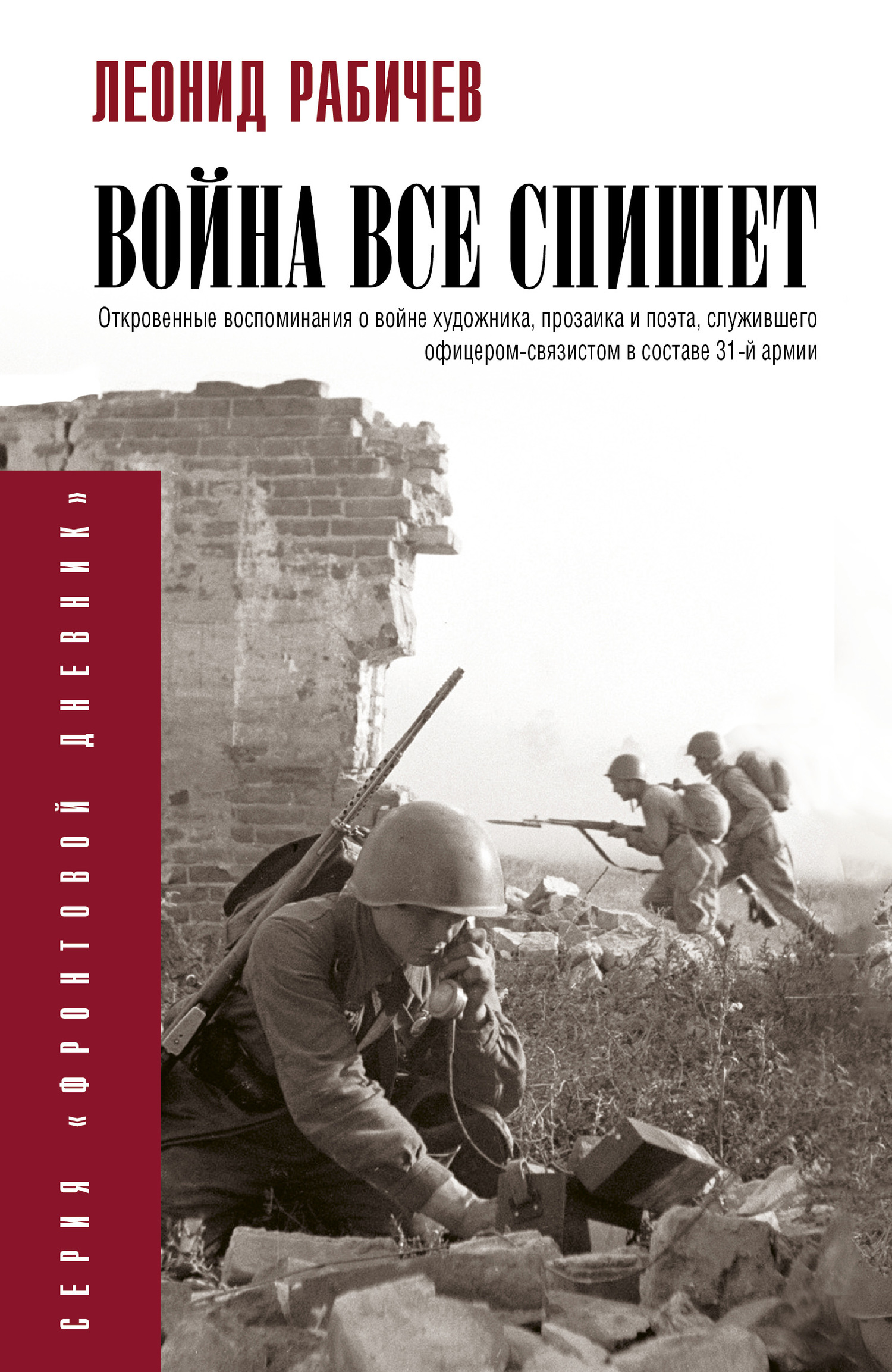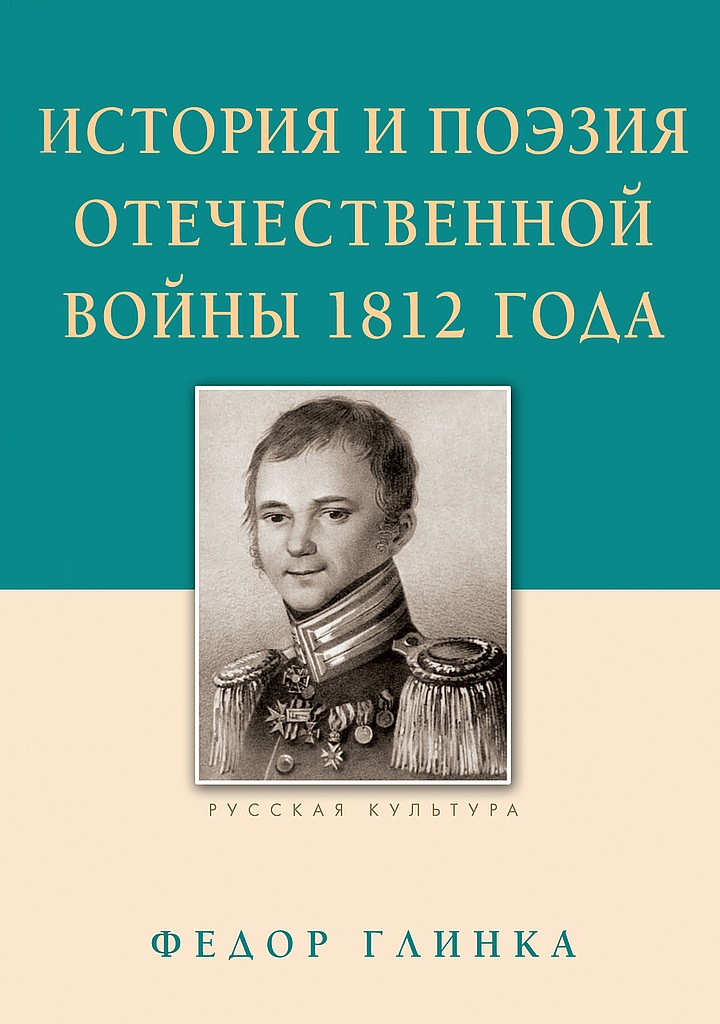Книга Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта - Борис Николаевич Александровский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Кошелек Вонсяцкого снова закрылся. Милости больше не расточались. Зато Вонсяцкого потянуло к политической славе, так сказать, мирового масштаба. В особом «манифесте», опубликованном на страницах заново созданной им газетки, просуществовавшей, в свою очередь, тоже очень недолго, он объявил, что он, Вонсяцкий, становится во главе создаваемой им новой белоэмигрантской политической партии фашистского типа и что именно он сам и его партия свергнут большевиков и спасут Россию.
Было это уже в годы расцвета гитлеризма в Германии. Новоявленный «фюрер» изобрел для себя и для своих «верноподданных», число которых едва ли превышало одну или две сотни, особую форму одежды, эмблемы, фашистское приветствие и т. д. После этого он начал объезд своих «верноподданных». А издаваемая им газетка печатала репортажи о том, как его встречало с цветами «благодарное население» несуществующего на географической карте новоявленного эмигрантского фашистского государства, правда, с весьма ограниченной территорией – частью североамериканского штата Огайо, где проживал «фюрер», да тремя-четырьмя пунктами в Европе и на Дальнем Востоке, где у «фюрера» были свои представители.
Скоро и эта затея приелась скучавшему от безделья политическому шарлатану. Выход газетки и объезды «верноподданных» прекратились. Вонсяцкий снова уплыл за океан и там, в Америке, в штате Огайо, занялся созданием «военного музея русской армии», то есть собирательством полковых значков, погон, кокард, фотографий, гравюр и другого материала, имеющего какое-либо отношение к царской армии.
Но вернусь к «Часовому». Если не считать короткого срока, когда Орехов получал от Вонсяцкого некоторое денежное подкрепление, весь остальной долголетний период его существования он был, так сказать, «на подножном корму», то есть имел своей материальной базой главным образом те скудные средства, которые поступали в редакцию от подписки и киосковой продажи. Есть основания предполагать, что это положение резко изменилось в послевоенные годы, когда Орехов совершил поездку в Англию, откуда вернулся окрыленный, по-видимому, не только новыми надеждами, но и еще чем-то, более существенным.
Прерванное в 1941 году издание «Часового» возобновилось и сразу было поставлено на широкую ногу, а сам Орехов в первом же номере своего возрожденного детища заявил во всеуслышание, что период эмигрантского шатания в годы войны в вопросе о признании советской власти как исторически законной кончился и что он, Орехов, вновь возвращается под старые знамена и лозунги непримиримой борьбы с этой властью «до победного конца». К этому же он призывал и всю эмиграцию.
Это было в 1945–1946 годах, незадолго до моего отъезда из Франции, когда совершенно ясно обозначилась гальванизация с помощью американского золота трупов большинства российских политических мертвецов. Именно тогда восстали из политического гроба и Керенский, и Деникин (последний вскоре сменивший гроб политический на гроб вполне реальный).
На личности В.В. Орехова я считаю нужным остановиться несколько подробнее. Происходил он из интеллигентских или полуинтеллигентских кругов. Конец Гражданской войны застал его в чине капитана. Во врангелевской армии он состоял в одном из железнодорожных подразделений, сведенных после эвакуации в железнодорожный батальон. Из Галлиполи он попал в Болгарию, а оттуда в Париж. Там в начале 1920-х годов и началась его политическая карьера. Было ему тогда не более 26–27 лет.
Орехов сразу занял позицию антисоветского активиста, представлявшего зарубежную «боевую» контрреволюционную молодежь. С таким ликом он попал в делегаты пресловутого «Зарубежного съезда». С трибуны этой анекдотической «Учредиловки» он призывал и молодежь, и всю эмиграцию к борьбе против советской власти «до победного конца».
Приблизительно в это же время он занял пост генерального секретаря Союза галлиполийцев, председателем которого был тогда престарелый артиллерийский генерал Репьев. Одновременно Орехов стал выпускать под своей редакцией новый, им самим основанный «боевой» антисоветский журнал «Часовой». На страницах журнала Орехов в течение всех пятнадцати лет довоенного периода и последующих послевоенных лет звал русское зарубежное контрреволюционное офицерство на «последний и решительный бой» с советской властью, а Евгений Тарусский печатал очерки летней лагерной жизни эмигрантских детей на Лазурном Берегу Средиземного моря.
Этих детей (не более 100–150), собранных со всех уголков Франции, он величал «новой Россией, которой принадлежит будущее». Он уверял, что эмиграция может спать спокойно, пока у нее имеются эти замечательные дети, поющие хором «Боже, царя храни» и бережно выпестовываемые гвардейским полковником Богдановичем (в годы войны – заместителем эмигрантского «фюрера» Жеребкова в эмигрантском филиале гестапо).
Постепенно круг сотрудников «Часового» расширялся. В нем начали принимать участие бывшие офицеры Генерального штаба, военные историки, военные бытописатели, фельетонисты и т. д.
«Часовой» явно пришелся «ко двору» воинствующей клике правого сектора белой эмиграции. Начальники РОВСа, в свою очередь, были в восторге и от журнала, и от его редактора. Орехову дали в качестве служебного редакционного помещения одну комнату в помещении РОВСа (впоследствии редакция перешла в его собственную маленькую квартиру в парижском предместье Аньер).
Дело расширялось, а сам Орехов пошел в гору. В 1927 году он добровольно оставил должность секретаря Галлиполийского союза, передав ее полковнику С.А. Мацылеву (впоследствии перешедшему на должность генерального секретаря РОВСа), и всецело отдался своему детищу, которое регулярно выходило два раза в месяц и расходилось по всем углам тех стран, где осели бывшие офицеры царской и белых армий.
Постепенно Орехов из фанфаронствующего мальчишки превратился в довольно крупную фигуру антисоветского зарубежья. Он бывал гостем в усадьбе Шуаньи и вел беседы с великим князем Николаем Николаевичем; имел возможность лицезреть «государя императора Кирилла»; находился в постоянном контакте с Врангелем, Деникиным, Кутеповым, Миллером; поддерживал связь с бывшими послами Временного правительства, финансистами, промышленниками, общественными деятелями правого сектора. В РОВСе он был вполне своим человеком и сумел угодить и «старикам» царской армии, и «штабс-капитанской молодежи» белых армий. Его видели всюду: на молебнах, панихидах, торжественных собраниях, совещаниях, докладах, банкетах, где шумели и гремели эмигрантские витии правого толка.
Зато он открещивался как от чумы от левого сектора белой эмиграции – от милюковщины и керенщины.
И милюковцев, и керенцев он считал предтечами большевизма и ненавидел их самой лютой ненавистью, которую только можно себе представить. Левые платили ему тем же: на страницах милюковских «Последних новостей» сотрудники этой газеты изощрялись в издевательствах и свистопляске вокруг «Часового», а попутно и всего РОВСа, который считал этот журнал своим официальным органом. Годами шла эта перепалка. С обеих сторон слышался скрежет зубовный. Только война и вызванное ею закрытие и милюковской газеты, и ореховского журнала