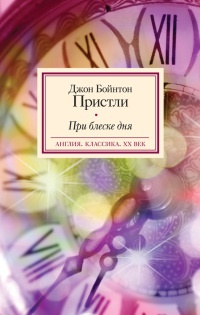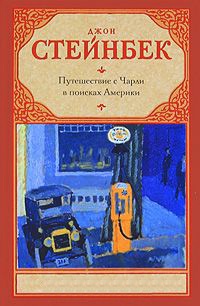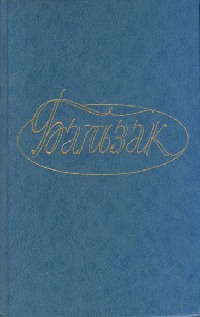Книга Мельмот Скиталец - Чарлз Роберт Метьюрин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
После того как эта попытка их не удалась, они прибегли к другому способу. Они начали стараться вовлечь меня в монастырские распри. Они рассказали мне множество всяких вещей о несправедливых пристрастиях и несправедливых наказаниях, которые каждодневно можно было наблюдать в обители. Одни заводили речь о каком-то больном монахе, которого заставляли ходить на утрени, невзирая на предупреждение врача, что ему это может стоить жизни, – и он действительно умер, и в то же время любимца своего, молодого монаха, отличавшегося цветущим здоровьем, освобождали от посещения утрень всякий раз, как только ему этого хотелось, и позволяли ему нежиться в постели до девяти часов. Другие жаловались на непорядки в исповедальне, и слова их, может быть, и возымели бы на меня свое действие, если бы третьи не добавляли, что с церковной кружкой дело обстоит неблагополучно. Это сочетание разноречивых толков, этот разительный переход от жалоб на пренебрежение к тайнам души в ее самом сокровенном общении с Богом к самым низменным подробностям разъедающих монастырскую жизнь злоупотреблений – все это восстановило меня против этой жизни.
До той поры я хоть и с трудом, но все же скрывал свое отвращение, но теперь оно сделалось настолько явным, что общине на какое-то время пришлось отказаться от своих планов в отношении меня, и одному умудренному опытом монаху было поручено сопутствовать мне в моих одиноких прогулках после того, как я стал избегать всяких встреч с другими. Он подошел ко мне:
– Брат мой, ты гуляешь один?
– Я хочу быть один.
– Но почему?
– Я не обязан ни перед кем отчитываться в своих поступках.
– Это верно, но мне ты можешь доверить все свои побуждения.
– Мне нечего вам доверять.
– Я это знаю, я не имею никакого права рассчитывать на твое доверие; побереги его для более достойных друзей.
Поведение его мне показалось странным: он просил меня оказать ему доверие и в то же время заявлял, что понимает, что мне в сущности нечего ему доверить, прося одновременно, чтобы я избрал для этой цели более близкого друга. Я, однако, молчал до тех пор, пока он не сказал:
– Брат мой, тебя же снедает тоска.
Я продолжал молчать.
– Если на то будет Господня воля, я помог бы тебе найти средства справиться с нею.
– И что, эти средства вы рассчитываете найти в стенах монастыря? – спросил я, посмотрев ему в глаза.
– Да, дорогой брат, да, конечно, весь монастырь, например, обсуждает теперь, в какие часы лучше начинать утрени, настоятель хочет, чтобы они опять начинались в положенный час, как раньше.
– А велика ли разница?
– Целых пять минут.
– Действительно, это очень важный вопрос.
– О, стоит тебе только один раз это понять, как ты обретешь в монастырской жизни счастье, и ему не будет конца. Здесь постоянно что-то узнаешь, о чем-то тревожишься, из-за чего-то споришь. Дорогой брат, постарайся вникнуть в эти вопросы, и тебе не придется тогда жаловаться на скуку – у тебя не останется ни одной свободной минуты.
Я пристально на него посмотрел и сказал спокойно, но, должно быть, достаточно выразительно:
– Выходит, что мне надо возбудить в себе раздражение, недоброжелательство, любопытство, словом, любую из тех страстей, от которых меня должна была спасти ваша обитель, – и все это только для того, чтобы жизнь в этой обители оказалась мало-мальски сносной. Простите меня, но я не могу, подобно вам, выпрашивать у господа позволение заключить союз с его врагом против порчи нравов, если, молясь об избавлении от нее, я в то же время поддерживаю ее сам своими поступками.
Монах ничего не ответил; он только воздел к небу руки и осенил себя крестным знамением.
– Да простит вам Господь лицемерие ваше, – прошептал я, а он в это время продолжал свою прогулку и, обращаясь к товарищам, повторял:
– Он рехнулся, окончательно рехнулся.
– Так что же теперь делать? – стали спрашивать все.
В ответ я услышал только сдержанный шепот. Я увидел, как несколько голов наклонились друг к другу. Я не знал, что замышляют эти люди, да мне это было и неважно. Я гулял один – был чудесный лунный вечер. Я видел, как лунный свет струится сквозь листву деревьев, но мне казалось, что передо мной не деревья, а стены. Стволы их были словно из адаманта, и сомкнутые ветви их, казалось, говорили: «Теперь тебе никуда от нас не уйти».
Я сел у фонтана, под сенью высокого тополя, место это я хорошо помню. Пожилой священник (незаметно подосланный ко мне общиной) уселся возле меня. Он начал свою речь с самых избитых утверждений о бренности земного существования.
Я покачал головой, и у него хватило такта, который все же не чужд иезуитам, понять, что этим он от меня ничего не добьется. Тогда он переменил тему разговора и стал говорить о том, как хороша листва и какая чистая вода в фонтане. Я согласился с ним.
– О, была бы наша жизнь такой чистой, как эта струя! – добавил он.
– О, если бы эта жизнь так же зеленела для меня, как это дерево, и так же могла приносить плоды, как этот тополь! – и я вздохнул.
– Сын мой, а разве не случается, что источники пересыхают, а деревья вянут?
– Да, отец мой, да, источник моей жизни был иссушен, а зеленая ветвь ее навсегда загублена ветром.
Произнося эти слова, я не мог удержаться от слез. Священник воспользовался тем, что, по его словам, было минутой, когда Господь дохнул на мою душу. Мы говорили с ним очень долго, и наперекор своему обыкновению и против воли я слушал его упорно и внимательно, ибо не мог не заметить, что среди всей монастырской братии это был единственный человек, который ничем не досаждал мне – ни до того дня, когда я принял монашество, ни после; когда обо мне говорилось все самое худшее, он, по-видимому, просто не слушал и всякий раз, когда его собратья высказывали в отношении меня самые зловещие предположения, качал головой и ничего не говорил. Репутация его была безупречной, и он исполнял все монастырские обязанности с такой же образцовой точностью, как и я. При этом я не испытывал к нему доверия, как вообще ни к одному человеческому существу; но я терпеливо выслушивал его, и терпение мое подвергалось, по-видимому, не совсем обычному испытанию, ибо по прошествии часа (я не заметил, что беседа наша затянулась дольше положенного времени и что замечания нам никто не сделал) он все еще повторял: «Сын мой, ты еще примиришься с монастырской жизнью».
– Никогда, отец мой, никогда, разве что до завтра источник этот иссякнет, а дерево засохнет.
– Сын мой, чтобы спасти человеческую душу, Господь совершал еще более великие чудеса.
Мы расстались, и я вернулся к себе в келью. Я не знаю, чем были заняты в ту ночь он и другие монахи, но перед утреней в монастыре поднялся такой шум, что можно было подумать, что весь Мадрид охвачен пожаром. Воспитанники, послушники и монахи сновали из кельи в келью, причем никто их не останавливал и ни о чем не спрашивал – казалось, что всякому порядку настал конец. Ни один колокол не звонил, не слышно было никаких приказаний соблюдать тишину; казалось, что монастырские власти навсегда примирились со всем этим гомоном. Из окна моего я видел, как люди бегают во всех направлениях, обнимают друг друга, что-то громко восклицают, молятся, дрожащими руками перебирают четки и восторженно воздевают глаза к небу. Веселящийся монастырь – зрелище странное, противоестественное и даже зловещее. Я сразу же заподозрил что-то недоброе, однако сказал себе: «Худшее уже позади, второй раз сделать меня монахом они не могут».