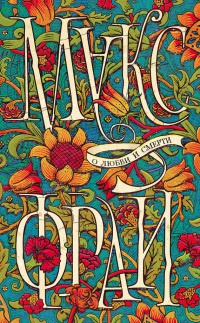Книга Песни сирены - Вениамин Агеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Королевский суд Лестера вынес приговор Далвара Сингху, который был уличён в причинении вреда здоровью своей жены Джасприт Сингх Джилл. Как следует из материалов дела, Далвара, работавший менеджером на фабрике по производству продуктов питания, в течение долгих месяцев подсыпал жене в еду и питьё стероиды Anapolon и Dianabol, причём сама супруга об этом даже не догадывалась. Далвара хотел, чтобы жена сидела дома с детьми и не нравилась другим мужчинам. Последствия отравления дали о себе знать довольно скоро: в результате кулинарных экспериментов мужа Джасприт Сингх Джилл стремительно набирала вес, у неё портилась кожа на лице, выпадали волосы на голове, а на подбородке, под носом и на спине появилась нехарактерная для женщин растительность. Чтобы не полагаться на волю случая, муж, британец индийского происхождения, сам готовил еду. Джасприт не раз жаловалась, что пища имеет специфический горький привкус, но всякий раз благоверный уговаривал женщину доедать всё до конца, аргументируя свою настойчивость тем, что приготовил кушанье своими руками, специально для неё.
Это продолжалось до тех пор, пока дочка Далвара не заметила, что отец при приготовлении ужина что-то толчёт в ступке. Она сообщила о своих подозрениях матери, которая открыла запертый буфет, обнаружила там анаболические стероиды и вызвала полицию.
Любовь ревнивца более походит на ненависть.
Скорее всего, меня подкупил сам тон Бориса Ивановича, когда он окликнул меня у окна выдачи: не будем забывать, что я только-только вступил во «взрослый» этап своей жизни. Многие, наверное, могут припомнить аналогичные случаи того же разряда из собственного опыта. Некий человек, который знал вас давным-давно, но не напрямую, а через родителей или каких-то других родственников, и с которым вы не встречались два-три года, неожиданно начинает разговаривать с вами не то что заискивающе, но как-то подчёркнуто уважительно, и даже весь комплекс его мимики и жестов вдруг становится разительно иным. Смысл перемены понятен: произошла инициация, «принятие в клуб». Былая констатация присутствия некой человеческой мелюзги, прежде выражаемая лёгким небрежным кивком, становится неуместной, ибо уже не соответствует возрастному и социальному статусу собеседника. Примерно так произошло и у нас с Григорьевским. Он первым подошёл ко мне, протянул руку для рукопожатия и даже отпустил не слишком тактичную шутку по поводу того, насколько я изменился и в какого рослого симпатичного парня превратился недавний нескладный и прыщавый отрок. Я мог бы ответить той же монетой на несколько грубоватый намёк о моём якобы разительном превращении, потому что сам Борис Иванович как-то уж очень оплешивел и заметно поистёрся с момента нашей последней встречи, но предпочёл вежливо промолчать. Если раньше даже на самый беглый взгляд Григорьевский выглядел моложе матери, то теперь почему-то настолько состарился, что даже на ровесника не тянул. Впоследствии я не раз замечал, что мужчины субтильного телосложения чаще всего именно так и стареют: до поры до времени выглядят чуть ли не подростками, а потом резко вянут, так что при ближайшем рассмотрении даже и без плеши выглядят какими-то засушенными кузнечиками. Борис Иванович, конечно, не преминул спросить меня о матери, и тут меня понесло. Ну как же: теперь я был взрослым, значит, знал всё, что только можно было знать о взаимоотношениях полов, имел право судить свысока о людских страстях и заблуждениях, а уж обстоятельства ссоры, ставшей поводом для маминого разрыва с Лёнечкой, были настолько забавны, что сами напрашивались быть представленными в свете снисходительной иронии. Именно так я и преподнёс хронику последних событий – не щадя ни Лёнечку, ни мать, не скупясь на подробности и всей манерой разговора приглашая собеседника разделить моё остроумие. Григорьевский, действительно, хихикнул раза два, да и в целом вёл себя довольно необычно – то потирал ладони, то вытирал их о штанины, то собирался уйти, а то ни с того ни с сего опять хватал меня за рукав и задавал всё новые вопросы, словом, проявлял необычное оживление. Я-то всегда считал его бесчувственным сухарём, правда, сухарём, склонным к брюзгливости и лишь поэтому не вовсе лишённым эмоций, хотя бы отрицательных. Странное состояние собеседника сразу же бросилось мне в глаза, но для того, чтобы свести концы с концами и понять, что оно было вызвано не чем иным, как моей собственной развязной болтливостью, мне не хватило проницательности. Впрочем, я и помыслить себе не мог, что история с Лёнечкой могла спровоцировать какие-то действия – если не считать за действие возникшую на лице Григорьевского кривоватую мстительную улыбку. Рассказывая о матери, я, безусловно, не имел никаких скрытых замыслов, во всяком случае, сознательных. Учитывая предыдущий крах брачных притязаний Бориса Ивановича, восстановление отношений между ними не представлялось возможным. Кроме того, я твёрдо знал – вернее, не знал в качестве материального факта, а, скорее, ощущал на биологическом уровне, – что он продолжал питать ко мне стойкую неприязнь, в основе, быть может, даже чисто бессознательную, как к сыну своего ненавистного соперника. Ну а после моего предполагаемого запрета на замужество матери – ещё и усугублённую реальным содержанием. Вполне естественно, что и я не испытывал к нему больших симпатий. Остаётся только гадать, почему я, прекрасно зная об этой взаимной неприязни, решил выставить перед ним на посмешище самого близкого человека. Выходит, что демонстративное повышение моей ранговой ценности как раз и сыграло главную роль в этом предательстве – ведь раньше-то Григорьевский никогда не удостаивал меня разговором на равных.
Прошло не так уж много времени, прежде чем я снова увидел Бориса Ивановича – на сей раз уже в собственной кухне, правда, в тот момент ещё только в роли гостя. Дело было во время моей незапланированной поездки домой в канун Нового года, и я, точно так же, как и за полгода до этого, не придал встрече особого значения, списав неожиданное появление Григорьевского на спонтанный предпраздничный визит. Вёл он себя скромно, весьма скоро откланялся, да и мать, когда он ушёл, как мне показалось, вздохнула с облегчением. Но всего лишь каким-то месяцем позже, вернувшись после зимней сессии, я неожиданно обнаружил Бориса Ивановича прочно поселившимся в нашей квартире. Откровенно говоря, я испытал настоящий шок, когда он отворил мне дверь, одетый в одни только семейные трусы. И даже взбесился немного, когда мне было незамедлительно предложено надеть потрёпанные войлочные тапочки – отныне ходить по дому надлежало в дурацких тапочках, дабы предохранять от повреждения паркет, самолично натираемый новым жильцом. Откровенно говоря, мне было бы непросто ужиться с ним под одной крышей, и я могу лишь благодарить судьбу, что наше вынужденное сожительство никогда не затягивалось надолго. Борис Иванович имел неприятное обыкновение всюду совать свой нос и переделывать всякую бытовую мелочь на свой лад, без сомнения, ощущая себя новым хозяином дома – особенно после того, как двумя месяцами позже осуществились его заветные чаяния и они с матерью наконец стали мужем и женой. До некоторой степени его можно было понять. В конце концов, в сравнении со мной он проводил в нашей квартире гораздо больше времени, особенно после того, как я стал сознательно уклоняться от коротких визитов, которые раньше очень любил. Но майские праздники в том году я встречал уже в Оренбурге, несмотря на то что проезд со студенческим билетом обошёлся бы не так уж дорого, да и мне всё же хотелось повидаться и с матерью, и со своими друзьями. Кстати говоря, я не уверен, что не допустил ошибки, сократив своё пребывание на законной жилплощади, потому что примерно в те же дни, пользуясь моим отсутствием в качестве предлога, Борис Иванович постановил, что оставлять отдельную комнату за студентом, проводящим дома всего несколько недель в году – слишком большая роскошь. В результате моя кровать, не без благословения матери, была перенесена в застеклённую часть лоджии, а старая книжная полка, не угодившая каким-то концептуальным устремлениям отчима, и вовсе выброшена на помойку. Меня даже в известность об этом никто не поставил, я обнаружил перемену только после сессии, прибыв домой на летние каникулы. Не столько жаль было полки, сколько возмущало пренебрежение к моим личным вещам и к моему мнению, которым никто не удосужился поинтересоваться. От отчима я и не ждал ничего хорошего, а вот столь ревностная брачная солидарность со стороны родительницы вызвала у меня безмерное раздражение. Правда, всего через несколько дней я выяснил, что не всё так гладко, как мне сначала показалось, и первые недоразумения между матерью и Григорьевским возникли ещё в день регистрации брака. По странному совпадению, дата их свадьбы пришлась на шестое марта, то есть на тот самый день, когда ровно год тому назад Лёнечка вручил матери достопамятный флакончик с духами. Мама совершенно некстати вспомнила об этом во время возвращения из загса, да ещё и поделилась с отчимом своим воспоминанием. Наверное, не стоило этого делать, но нужно знать мою родительницу – она человек достаточно прямолинейный и не склонна подразумевать для другого человека слона на том месте, где она видит всего лишь муху. Григорьевский сначала мрачно замолчал, а по возвращении домой побежал в мамину спальню и повыбрасывал её духи, среди которых была и злополучная «Жизель», в форточку. Правда, ещё через несколько минут уже целовал матери ноги и просил о прощении, а потом долго ползал в снегу под окнами, разыскивая выброшенные флаконы. Но все духи найти не удалось, причём Лёнечкин подарок, конечно же, был в числе пропавших без вести.