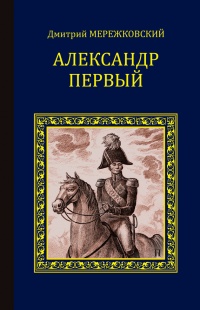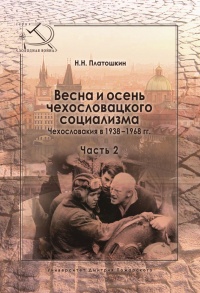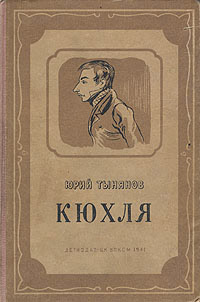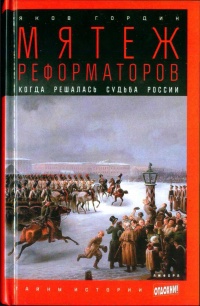Книга Оппозиция его величества - Михаил Давыдов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1820 г., кажется, окончательно прояснилось отношение императора к Воронцову. Н. М. Лонгинов писал графу Семену Романовичу: «Государь не любит графа Михаила и, как я полагаю, никогда не полюбит. Человек, выдающийся из общего уровня, никогда не был у него в милости, а особенно если этот человек с твердыми началами, неуязвимый никакими оскорблениями, любимец солдат и в уважении у общества. Можно подумать, право, что Государь начинает завидовать своему подданному, как только видит его достоинства… Крайний эгоизм, с его неизбежными спутниками в виде деспотизма и жестокости, судят не по одним действительным заслугам, но еще и по тому, приносятся ли они лицом, слепо боготворящим своего монарха и принижающим себя перед ним. Подобные монархи пользуются словом „отечество“ только тогда, когда им нужно обольстить или вызвать к себе доверие своих подданных. А в прочих случаях это слово режет им слух, возбуждает опасения, как призывный клич, возмущающихся против воли одного, если воля эта дурно направлена и ведет страну к гибели. Одно уже это слово „патриот“ пугало; тогда как о началах (нравственных — М. Д.) мало заботятся, если только это люди преданные монархии. Вот почему такая любовь к людям ничтожным, особенно к податливым немцам или к другим иностранцам, которые сходят за людей порядочных, между тем как они достойны одного презрения. Очень естественно, что подобная шайка людей, без всякого достоинства, без дарований и большею частью совсем необразованных, никогда ни к чему не стремится за пределы возможного и довольствуется наилегчайшим. Мы видим неграмотных солдат, постигающих ремесло капрала; это настоящая модная мания, тем пригодная, что занимает собой великое число людей и не дает им ни времени, ни средств относиться участливо к делам, в которые не желают постороннего вмешательства. Прибавить к этому каверзы общества и политики и получится картина так называемого военного двора, достойная Гогарта»[129]. Трудно найти более тонкую и одновременно уничтожающую характеристику императора и его Системы, да еще данную царедворцем!
О неприязни к нему Александра Воронцов догадывался давно. А вот позиция его друзей, прежде всего Закревского, который, по сути, присоединился к его хулителям, была, можно думать, неприятным сюрпризом.
С 1820 г., после возвращения Воронцова из Англии, куда он ездил после окончания своей миссии во Франции, начинается расхождение его с Закревским и, особенно, с Ермоловым. Почему так произошло, до конца неясно. Возможно, охлаждение отношений с «братом Алексеем» наступило из-за «выпущенных в свет» по неосторожности Закревского некоторых язвительно-ревнивых отзывов Ермолова о Воронцове; возможно, Воронцов полагал, что и «Мазепа» (дружеское прозвище Закревского) их разделяет. Но, видимо, не будет ошибкой связать определенную переоценку Закревским личности Воронцова с участием последнего в упомянутом обществе. 31 мая 1820 г. Закревский в письме Киселеву бросил короткую фразу: «Его (Воронцова — М. Д.) слава во время пребывания здесь помрачилась; он переменился и совсем не тот, что был; видно, польская нация его преобразовала»[130]. На фоне прежних дружеских уверений в любви до гроба эта фраза звучит с категоричностью прямо гильотинной. «Помрачению» славы Воронцова, несомненно, способствовало его желание изменить участь крестьянства, любопытно и показательно, что для Закревского налицо и виновница перемен в поведении прославленного русского генерала — польская жена!
Письмо Закревского Ермолову о приезде Воронцова в Петербург было, как можно судить по ответу Ермолова, достаточно скептичным. Не преминул уколоть Воронцова и Ермолов. О проекте же сказано ясно: «Мысль о свободе крестьян, смею сказать невпопад. Если она и по моде, но сообразить нужно, приличествуют ли обстоятельства и время. Подозрительно было бы суждение мое, если бы я был человек богатый, но я, хотя и ничего не теряю в таком случае, далек однако же, чтобы согласоваться с подобным намерением, и собою не умножил бы общества мудрых освободителей. Как вообразить, что нам все то приличествовать может, без чего другие существовать не в состоянии? Вред замыслов не состоит в самом предложении, но в примере, которому последовать могут многие неблагоразумные люди единственно по доверенности к мнению известного и отличного человека… Не думает ли брат Михайло сделать себе бессмертное имя? Ему надобно остерегаться, что [бы] не оставить по себе памяти беспорядком и неустройствами, которые необходимо будут следствием несогласованного с обстоятельствами переворота. Небольшое счастье быть записано в еженедельное издание иностранного журнала»[131].
Причины бескорыстной неприязни Ермолова к освобождению крестьян ясны: у России свой путь («как вообразить, что нам все то приличествовать может», и т. д.), а «несогласованный с обстоятельствами» «переворот» приведет к новой Пугачевщине. Вместе с тем важность проблемы требует более подробного анализа. Поэтому нам придется вернуться назад, в 1817 г., к сюжету, казалось бы, далекому от российских реформ — к посольству Ермолова в Персию.
В апреле 1816 г. Ермолов отправился в Персию. Цель посольства, как уже говорилось, состояла в установлении окончательной границы между Россией и Персией по Гюлистанскому миру 1813 г. Персия настаивала на уступке некоторых пограничных земель, и царь, всеми силами стремившийся сохранить мир, в общем был согласен на это. Во всяком случае персидский посол в Петербурге был уведомлен о том, что Ермолову дан приказ «во всем сколько возможно соответствовать желаниям шаха и сохранить дружелюбное его расположение». Эта туманная формулировка равно была пригодна и для того, чтобы санкционировать передачу спорных территорий, и для того, чтобы их не возвращать. Ермолов должен был сам решить это на месте, как и то, поедет ли он к шаху лично или отправит кого-нибудь другого. Ермолов, во-первых, категорически отказался уступить хотя бы аршин завоеванных земель, во-вторых, отправился в Персию лично, не столько от честолюбивого, сколько от самолюбивого любопытства.
Свою задачу он сформулировал так: «Главнейший предмет дел моих был тот, чтобы удержать за нами области присоединенные, которых сильно домогалась Персия. Отказ сам по себе уже неприятен, а нам надобно было не только сохранить, но и утвердить связи дружества». С этой задачей Ермолов справился блестяще, о чем в столь же блестящей форме рассказал в «Записке о посольстве в Персию». К сожалению, «Записка» нас сейчас интересует прежде всего как один из немногих документов, позволяющих судить об общественно-политических взглядах Ермолова.
Еще в Петербурге, сообщая Воронцову, что назначение послом и самому ему «в голову не вмещается», Ермолов говорил, что это «настоящая фарса или бы послали человека к сему роду дел приобвыкшего»[132]. Однако после возвращения он назвал свое посольство «фарсой» уже в другом смысле. Это действительно был спектакль, точнее как бы дипломатический водевиль, написанный для бенефиса Ермолова, причем он был не только автором, но и режиссером, и «примадонной», с правом импровизации по ходу действия[133].