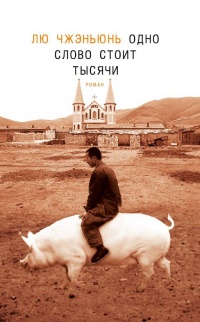Книга Любовь гика - Кэтрин Данн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я возмутилась:
– Забирать деньги – значит идти против семьи! Пугать папу – значит идти против семьи.
Арти лишь раздраженно тряхнул головой.
– Нет, если смотреть в длительной перспективе.
Я этого не понимала. Папин голос, сердитый и слабый. Его рассказ. Как эти ничтожества издевались над ним, нашим папой, самым сильным и храбрым из всех отцов, над Алом, инспектором манежа, хозяином цирка и самым красивым мужчиной на свете… Я чувствовала себя обворованной. Моего героя разоблачили как афериста, и мне было неловко за все эти годы, когда я разрешала себе быть уверенной, что папа защитит нас от всего на свете. И виноват в этом Арти.
Я уже открыла рот, чтобы выкрикнуть обвинения, наорать на Арти. Но с ним творилось нечто странное. Он перекатился на бок и свернулся в тугой комок. На его неподвижном, застывшем лице двигались только глаза – судорожными рывками под закрытыми бледными веками. Из-под одного века выдавилась одинокая слезинка и тут же исчезла в складках сморщенной кожи. Я уже несколько лет не видела, как Арти плачет. С тех пор, как он прекратил вспышки гнева и вошел в столь любимый им образ крутого и жесткого парня. Хотя, может, это была не слеза. Арти открыл глаза и уставился куда-то мимо меня.
– Элли, – произнес он. – Я бы убил эту овцу, но она заберет с собой Ифи, просто назло. И Цыпа! Неужели никто, кроме меня, не видит, что он такое?! Что он с нами сделает? Если мы будем неосторожны, он разобьет всю семью, как яйцо. – Арти посмотрел на меня умоляющим взглядом, который меня напугал.
– Тебе просто завидно, – сказала я. – Ты хочешь быть единственной звездой!
Он откинулся на подушку. Будь это кто-то другой, я бы сказала, что его лицо исказилось отчаянием и безысходным смирением. Но это был Арти.
– Да, и ты тоже, я знаю. Он такой милый. Почти как нормальный. Невинный ребенок. Невинный, как землетрясение. Когда он родился, папа нам строго-настрого наказал блюсти секретность, а теперь таскает его наружу, где посторонние могут увидеть, как он передвигает предметы. В цирке нет никого, кто не знает! Они поступают к нам в Питсбурге, увольняются в Таллахасси и рассказывают всем родственникам и знакомым. И тетеньке в автобусе. Сколько у нас еще времени, Оли? Сколько у нас еще времени, пока ФБР не запрет нас за колючей проволокой в интересах национальной безопасности? – Теперь Арти почти кричал, глядя мне прямо в глаза.
– Ох, Арти, – прошептала я. – Ты просто придумываешь оправдания.
Он резко поднялся на задних плавниках, дрожа от ярости.
– Слушай! А ты никогда не задумывалась, что, может, я достоин того, что имею? Нет? Элли – ничто, ноль без палочки. Ее не возьмут даже в заштатный бар тренькать на пианино. Но у нее есть Ифи. Папа им все преподнес на блюдечке. А я? Знаешь, что делают с такими, как я? Толстые стены, решетки на окнах, палата на шесть человек, два подгузника в день и визиты побитого молью Санты на Рождество! У меня нет ничего. Близнецы – настоящие уродцы. Цыпа – настоящее чудо. А я? Всего лишь несчастный случай на производстве! Но я сделал что-то из ничего – сделал себя! Мне приходилось упорно работать и думать головой. И не забывай, я был первым, кто выжил. Я самый старший, я первый сын, я Биневски! Этот цирк – мой. Когда-нибудь станет моим. Папа был старшим сыном – и получил цирк и дедушкин прах. До моего появления дела в цирке шли худо. А я не дал нам пропасть. Когда папы не станет, все здесь станет моим.
Близнецам плевать, больше у меня зрителей, чем у них, или меньше. Им даже не надо играть, танцевать или петь. Им достаточно просто сидеть на стуле и махать ручкой, и все равно они будут собирать толпы. Они могут позволить себе лениться. Их все равно никто не переплюнет. А Цыпа! Конечно, он потрясающий. Это мое проклятие. Я уродец, да, но не такой уж уродец. Я такой же, как ты, – просто убожество, в котором нет ничего особенного. Во мне нет ничего уникального, кроме мозгов. Но их-то публика и не видит. Знаешь, что меня бесит больше всего? Ифи должна была быть моей. Она должна была быть со мной. Тут папенька прокололся. Элли нам не нужна. Если бы мы с Ифи были сиамскими близнецами, мы бы такое могли сотворить… Ну, ничего. Мое время еще придет.
Пламенный жар его гнева и злости угас. Арти снова откинулся на подушку, его лицо сделалось совсем детским – так непривычно. Ему было страшно. Его руки-плавники тянулись друг к другу, но не могли соприкоснуться, не могли встретиться. Они лежали у него на груди, словно коротенькие потуги неудавшейся молитвы.
Арти лежал на боку, глядя в пространство, обессиленный после того, как исторг из себя столько яда. Я подобралась поближе к нему и прижалась животом к его спине. Это была моя награда за терпение и стойкость. Арти никогда не просил, чтобы я обняла его, но в такие минуты позволял мне согреть его и согреться самой. Я уткнулась носом ему в шею и старалась дышать тихо-тихо, чтобы не раздражать его. Я почувствовала, как он гладит меня плавником по руке. Когда Арти заговорил снова, его голос отдавался рокочущей дрожью по всему моему телу.
– Знаешь, Оли, я удивлен. Я не думал, что папу так легко одолеть. Не так скоро. Это даже пугает.
Как мы кормили кошек
Ал, самый красивый мужчина на свете, озадаченно хмурился над первой утренней чашкой кофе. Он был весь взъерошен со сна, усы топорщились, лохматые брови торчали во все стороны.
– А что там за история с маленькими безобразниками и креслом-коляской на горке? – Он обвел нас строгим взглядом. – А, мои причудки?
Мы все послушно заулыбались, и Элли завела свою коронную песню «Ну, папа!», чтобы его обезоружить, пока мамины сонные руки наполняла наши тарелки. Каждый раз, когда мама тянулась через стол, рукава ее кимоно задевали масло в открытой масленке.
Пока я резала мясо на тарелке Арти, мою грудь распирала тоска, грозившая пролиться слезами из глаз и соплями из носа. Как я теперь понимаю, это была растерянность и печаль, какую испытывают все дети, когда им приходится защищать родителей от жестокой реальности. Детям горько и странно видеть, какими наивными, хрупкими и уязвимыми могут быть взрослые. И их, этих взрослых, конечно же, нужно беречь от всей едкой грязи детства.
Можно ли винить ребенка в том, что его возмущают иллюзии взрослых? Большие мягкие руки, тихий шепот в темноте: «Скажи маме и папе, что приключилось. Мы прогоним любую беду». Ребенок, в слезах ищущий утешения, чувствует, как ненадежно убежище, что ему предлагают. Как дом из соломы, домик из веточек. Взрослые не понимают. Они называются большими и сильными, обещают защиту от всего плохого. И видит бог, как отчаянно дети нуждаются в этой защите. Как непроглядна густая тьма детства, беспощадны клинки детской злобы – незамутненной, чистейшей злобы, которую не сдерживают ни возраст, ни наркоз воспитания.
Взрослые прекрасно справляются с расцарапанными коленками, упавшим на землю мороженым и потерявшимися куклами, но если они заподозрят истинную причину, по которой мы ревем в три ручья, то сразу выпустят нас из объятий и оттолкнут от себя с ужасом и отвращением. И все же мы – маленькие и напуганные, хотя и страшные в своих лютых желаниях.