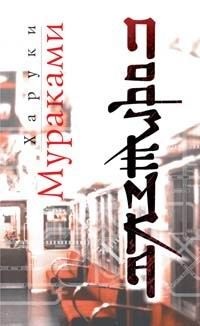Книга Аномалия Камлаева - Сергей Самсонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Возьми полотенце, — крикнула ему Альбина из-за двери; он поднялся с сигаретой в зубах; по-прежнему спокойно-деловитая, со сдвинутыми бровями, она протянула ему полотенце и встала в тесном коридоре так, что ему не оставалось ничего другого, кроме как направиться в ванную. Короткое кимоно ничего не скрывало — она вообще казалась тем более нагой, чем больше была одета, и напротив, нагота придавала ей какую-то совершенную неуязвимость, и, донага раздетая, она казалась закованной в непроницаемую броню собственной кожи. Тут испытал он по-настоящему сильный прилив телесного возбуждения и, оглушенный стыдом (из-за того, что был мгновенный выстрел в его набухшем, но не отвердевшем уде и что-то пулей пронеслось сквозь уретру), предчувствием неминуемого и величайшего позора, он почел за лучшее поскорее скрыться в ванной — чтобы Альбина не заметила ничего.
Принабухший отросток был влажен — от чрезмерного волнения, от перевозбуждения, но совсем не так, как это было в незапамятные времена начального созревания, когда Матвей просыпался среди ночи от того, что из отростка тек неведомо откуда взявшийся липкий сок. Сейчас все было иначе.
В ванной тоже было большое овальное зеркало, в котором он сызнова безуспешно попытался опознать себя. Тот, кого он увидел, оказался велик и невозможно, непредставимо тяжеловесен, плотен. Голый торс его в зеркале представлял собой перевернутую трапецию, и в плечах Матвей был шире, чем в поясе и бедрах, — как минимум на треть. Под тускло блестевшей кожей ходили комья мускулов, грудь отчетливо делилась надвое вертикальной выемкой между двумя надувшимися грудными мышцами, а ноги поражали неохватной толщиной крепких ляжек и казались прочными, как стволы строевого, корабельного леса; Камлаев был в одно и то же время и легким, как перышко, и тяжелым, как кусок свинца.
Он все никак не мог поверить в собственное бесстыдство и в то, с каким спокойствием расхаживал он только что по комнатам, как будто только тем и занимался всю сознательную жизнь, что расхаживал нагишом на глазах у незнакомых женщин.
Он продолжил разглядывать бугристый живот, принимавший книзу V-образную форму, заросший жестким волосом темнеющий пах, отяжелевший уд, все еще не распрямившийся, свисающий, но уже с самодовольством, с какой-то важной победительностью… и вдруг открылась дверь, и в ванную вошла Альбина с фаянсовым кувшином, над которым клубился пар. Он не успел прикрыться спереди вафельным полотенцем, и она невозмутимо оглядела его, скользнув равнодушным взглядом по животу и паху, так, как если бы каждый день ей на ужин доставляли цветущего юношу в качестве пищи и она уже не знала, куда деваться ей от этого голого мяса, от этой только что созревшей, торопливо оперяющейся человечины.
Та легкость, с которой она отдавала себя, была поразительна. Такого самоумаления, безостаточной, нерассуждающей отдачи и полнейшего при этом бескорыстия он ни в ком не мог вообразить. Как будто она и вправду отправляла ритуал, как будто она и вправду была чем-то вроде сестры милосердия и находилась на службе, и служба эта заключалась в том, чтобы дать Матвею то, без чего не может обходиться ни один мужчина, даже самый последний и жалкий горбун из живущих на этой земле. Что она не влюбилась, не втюрилась, было ясно Матвею как божий день; такие не влюбляются — отчего-то подумалось ему; в том, что Альбина делала, было нечто другое, постыдное, оглушительное, непристойное, но в то же время и суровое, строгое, неотменимое, идущее как будто из подземных глубин, сквозь перегной веков, от самого начала человечества.
— Вот горячая вода, — сказала она, устанавливая кувшин на раковину под зеркалом.
И Камлаев, только что такой огромный, упивавшийся собой и похожий на довольного, сытого удава, в один миг ощутил всю слабость, всю непрочность свою. Тут он почувствовал опять: она была бесконечно сильнее и больше его; ее сила, заключенная в мускулистых икрах, в тяжелых мощных бедрах, была неисчерпаема и многократно превосходила матвеевскую, подавляла ее. И не то чтобы она могла подхватить его на руки и поднять над головой на полностью вытянутых руках… разумеется, этого она бы не смогла, но вот то, что она при желании могла без особого труда задушить его своими сильными ногами, не подлежало ни малейшему сомнению.
Альбина ушла, и Матвей, подняв над головой дымящийся кувшин, ничтоже сумняшеся окатил себя этим почти кипятком. Кожу он не сжег, даже больно по-настоящему не было словно; так он был напружинен, что напряженность его переходила в бесчувственность. Он, однако, взял эмалированную шайку и наполнил ее холодной и горячей водой, соблюдая пропорции.
Тягучая вода стекала по его раздавшимся за последний год плечам, по безволосой груди, на которой разве что вокруг сосков пробивалось скудное волосяное обрамление. Он взял бледно-розовый, с «земляничным запахом» обмылок и намылил пахучие подмышки, затем твердый, как стиральная доска, живот, марсов холм, мошонку и то отверстие, что называется заднепроходным. То и вправду был ритуал, будто таинство погружения в недоступную доселе стихию, и, омывшись, Матвей словно должен был утратить свою прежнюю сущность для того, чтобы обрести новую, более высокую. Как в той сказке, сигануть сначала в кипяток, затем — в ледяную прорубь и вынырнуть из молока всесильным, вечно юным.
Подняв кувшин над головой и опрокинув на себя остаток, он досуха растерся вафельным полотенцем и, обмотав его вокруг бедер, со страхом пошел к Альбине… Она сидела на краю кровати и покачивала ногой, едва удерживая на носке полускинутую тапочку.
— Ну, намылся? Садись сюда, — показала она на место рядом с собой, и этот легкий шлепок рядом с крепким, тугим бедром показался ему опять жестом, свойственным скорее врачу, отработанным и заученным движением, что повторялось сотни раз чуть ли не каждый божий день: точно так же Матвея можно пригласить и на «эхоэнцефалограмму», и на «прогревающие процедуры».
— Ну, иди сюда, ложись, — позвала она, потягиваясь и опускаясь на спину, не мягко и не жестко, не ласково и не грубо, не с чувством и не безразлично.
И Матвей как-то криво, с унизительной неуклюжестью пополз на самую середину кровати, все еще надеясь избежать того убийственного излучения, что исходило от Альбины, все еще рассчитывая остаться за границей того истомно сжимающего силового поля, в которое Альбина была заключена и в которое она затягивала и Камлаева.
— Зря ты музыкой решил заняться. Тебя нужно было бы отдать в кино, — раздумчиво сказала она. — Как-то странно, что тебя в кино не взяли. А ты разве не знаешь, что есть такие специальные люди на киностудии, которые ходят по школам и выбирают для съемок детей? И как же это они тебя пропустили? Тебе надо быть героем-пионером — с такими-то глазами. А когда немного подрастешь, то обязательно станешь героем-полярником. Или летчиком. Совсем немного подрасти, осунуться, вот здесь вот припухлость детскую убрать… вот здесь, — провела она пальцем по Матвеевой носогубной складке, — и все — настоящий герой-любовник, Жан Маре вылитый… Ну, как это ты не хочешь в кино? От девушек бы не было отбоя. — Ее речам была свойственна какая-то медлительная, тягучая рассудительность: она как будто никогда не понимала другого человека до конца и будто заранее отступала перед той загадкой, которую представляла для нее всякая другая личность. Вот и сейчас казалось, что она прислушивается к каким-то подводным токам Матвеевой жизни, к непостижимой и таинственной логике его развития, к тому, что происходит только с ним и потому не может быть ею понято.