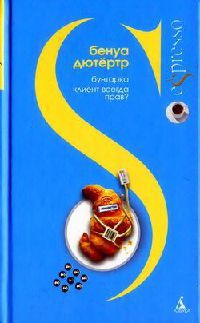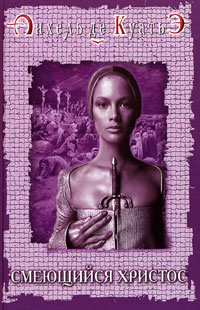Книга Родная речь - Йозеф Винклер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Как только я слышал чуть хрипловатый голос трансвестита, мне на ум приходил шероховатый лист бумаги, на котором я пишу любовные стихи. Перо со скрежетом выводит буквы, они получаются слишком жирными, кончик пера обрастает бумажными ворсинками. «Я ощущаю себя женщиной, — сказал он. — А как себя ощущает женщина?»
Однажды я привел в свою квартиру на Тарвизерштрассе паренька, промышлявшего проституцией. Он был настолько пьян, что мне пришлось чуть ли не тащить его на себе под дождем до самого дома. В моей комнате он тут же повалился на кровать. Как только он заснул, я раздел его и укрыл одеялом. Поскольку у меня лишь одна кровать, сам я лег на полу. Чтобы моя постель была помягче, пришлось достать из шкафа грязное белье. Я был просто счастлив, что имею возможность спать на полу, в то время как он лежал на моей кровати.
«Я скорее босиком пройдусь по полю, усеянному бритвенными лезвиями, нежели стану тебе в чем-либо помехой», — лицемерно заявил он юноше, чье нагое тело лежало на холодном алтарном камне полуразвалившейся церкви. Он крепко стиснул мне губы, зажав мою голову между ляжками, чтобы я не мог вымолвить ни слова.
«Сделаю минет или пожму член гомику и снова исчезаю с парой сотен в кармане, — сказал мальчик с панели. — А что мне еще делать? Скажешь, пойти работать. Но так деньги достаются легче, даже если от этого иногда воротит». «Пойдем со мной, — предложила ему проститутка на Блошином рынке, — уж я тебя побалую. Пойдем. Триста шиллингов, и я тебя заласкаю». — «Не надо мне твоей ласки». — «Ты первый, кто не хочет моей ласки», — насмешливо процедила она и отвернулась от меня. Однажды он с Михаэлем под ручку подходил к Мозер-Вердино, стоявшая на углу шлюха решила закинуть удочку. «Мы голубые», — сказал он. «Тогда всё о'кей», — рассмеялась девица.
Трансвестит снимает трусы так, как их снимал бы тот, кто сидит перед ним, ведь он привык к мысли, что ляжет в постель не один, левой рукой он берется за член, а правой ищет рукоятку топора. «Вот иду я один-одинешенек из бара домой и от отчаяния заламываю руки, пока живот не вспотеет, — говорил он. — Из листа белой бумаги вырезаю мужской силуэт и черными чернилами пишу на нем эротические стихи. Против любви я купил розы и послал их своему врагу, потому как розы опошляют любовь». Он перечислил мне несколько кафе, где тусуются голубые: «Золотое зеркало», «Тадзио», «Дориан Грей», «Пти Флёр», «Клейст-казино», «Джеймс Болдуин», «Жорж Санд».
Глядя на проститутку в фильме Бунюэля, я занимался мастурбацией, так как моя первая жена была потаскухой. Вспоминаю то время, когда я, сидя в сортире на филлахском вокзале, перестукивался со своими сверстниками — подмастерьями и школьниками, подглядывал через дыры в деревянной стенке и каждый вечер видел какого-нибудь другого паренька, который сидел на унитазе, раздвинув ноги и обхватив рукой член. Со временем дырявые деревянные стены были заменены подмастерьями.
На ветвях рождественской елки, красовавшейся в освещенной витрине вплоть до середины января, висели изысканные бюстгальтеры, дамские трусики, нейлоновые чулки и пояса. На верхушке — ангелок, у него в руках табличка с надписью «Счастливого Рождества!».
В супермаркете я спрашиваю у продавца, стоящего возле эскалатора: «Где отдел дамской одежды?» Когда я понял, что обратился не к продавцу, а к манекену, я чуть не вскрикнул от страха и хотел было броситься к дверям. «Возьмите вот эти трусики, — предложила продавщица, — это же просто прелесть. У вашей подруги тот же размер, что и у меня?» Я всякий раз с дрожью вхожу в магазин дамского белья. Если копание в тряпках становится слишком долгим удовольствием, я возмущенно кричу: «К черту! Пусть сама выбирает себе прикид, я не знаю, чего она хочет!..»
Как средство против малокровия врач прописал ему железосодержащие таблетки. Через какое-то время он половину употребил по назначению, а остальные постепенно портились. На них выступали пятна, и он убедился, что это настоящая ржавчина. Еще ребенком он не пекся о своем здоровье, ему хотелось оставаться анемичным. Он боялся, что с отцом может случиться несчастье. «Кто же будет держать меня в страхе, кто будет тиранить и пороть меня? Страх и порка насущно необходимы мне. Я не могу жить без страха и боли».
У него — бледное, как говорили в деревне, бескровное лицо. Зато его старший брат был, можно сказать, краснокожим. «Должно быть, — размышлял он порой, — брату в избытке досталось то, чего не хватало мне. Породистую лошадь в деревне называют чистокровкой. Метиса — полукровкой. А меня — молокровкой».
Если в «Бунте Иллюстрирте» он видел фотографию жертвы убийцы, то первым делом обращал внимание на лужу крови, а уж потом рассматривал лицо убитого. Заметив на улице кровавое пятнышко, он в страхе спешил унести ноги, будто, как он часто говаривал, ему привелось увидеть смерть во плоти и крови. «Привези апельсинов-кровянчиков, — шептал он матери, когда она собиралась в Филлах к невропатологу. — Кровянчиков, мама».
Тетка малокровного начинала листать газету с конца, чтобы сначала прочитать траурные объявления, а затем уж информацию о последних злодеяниях. Открывая популярную медицинскую энциклопедию, он прежде всего отыскивал текст под рубрикой Кровь.
После того как из книги по естествознанию он узнал, что змеи — животные холоднокровные, они стали ему часто сниться. Но он редко видел во сне змей, обитающих в лесах и лугах его родных мест, а все больше — кобр и очковых змей. Временами он в страхе просыпался, ощущая скольжение холодной твари по его теплокровному телу, но после этого иногда вновь засыпал, блаженно причмокивая и поглаживая рептилию.
Малокровный ребенок закрепил на спине два ивовых прута, которыми его пороли, и, вообразив себя священником в сутане и с кадилом в руке, двинулся вдоль берега Дравы. Случалось, он молил о любви двуполого ангела своего детства, особенно когда смертельный страх учащал или замедлял ритм сердца; он склонялся над грудью ангела, раздвигал черные перья и с закрытыми глазами искал под ними соски. Человек, который истязал его, шел, перекинув через плечо веревку, по двору, и ветер небрежно трепал широкие штанины.
Он покупал анатомические атласы, вырезал окрашенные в разные цвета легкие, сердца, печени и артерии и поедал их. А вот кровяной суп видеть не мог, не то что есть. Его тошнило от самих слов «кровяной суп» или «кровяная колбаса». Все артерии и вены, которые можно было разглядеть на ногах и руках, он обводил красным фломастером.
Как только пропахший конским потом кулак мучителя вминался ему в лицо, у него тотчас же начинала хлестать кровь из носа. Он тут же размалевывал кровью всю физиономию и в этой красной маске бежал в поле, потом вниз, в луга и позволял себе передышку только на берегу Дравы. Он садился на какой-нибудь камень и в забытьи часами созерцал бурливую воду.
Склянку с человеческой кровью он видел на шкафу в отделении интенсивной терапии, когда прибыл в больницу для исследования крови. Его тело как магнитом потянуло к багровеющей склянке, но медсестра преградила ему путь, указав пальцем на табличку: «Вход воспрещен».
Увидев на улице кого-нибудь с кругами под глазами, он испуганно вздрагивал и смущенно отворачивался, чтобы не оскорбить человека своим взглядом. Сколько раз ему приходилось слышать: «Опять круги под глазами, небось снова занимался рукоблудием». Однажды, когда он стоял, почти соприкасаясь с обнаженной девицей, положившей руки на его голые плечи, малокровку стошнило. Рвотная масса потекла по девичьим грудям и животу. Но обнаженная не отшатнулась, напротив, она прижалась губами к его рту. «На улице меня дразнят как раз те парни, — сказал он, — которые предлагают в парке мне и другим мужчинам за деньги расстегнуть им ширинку…»