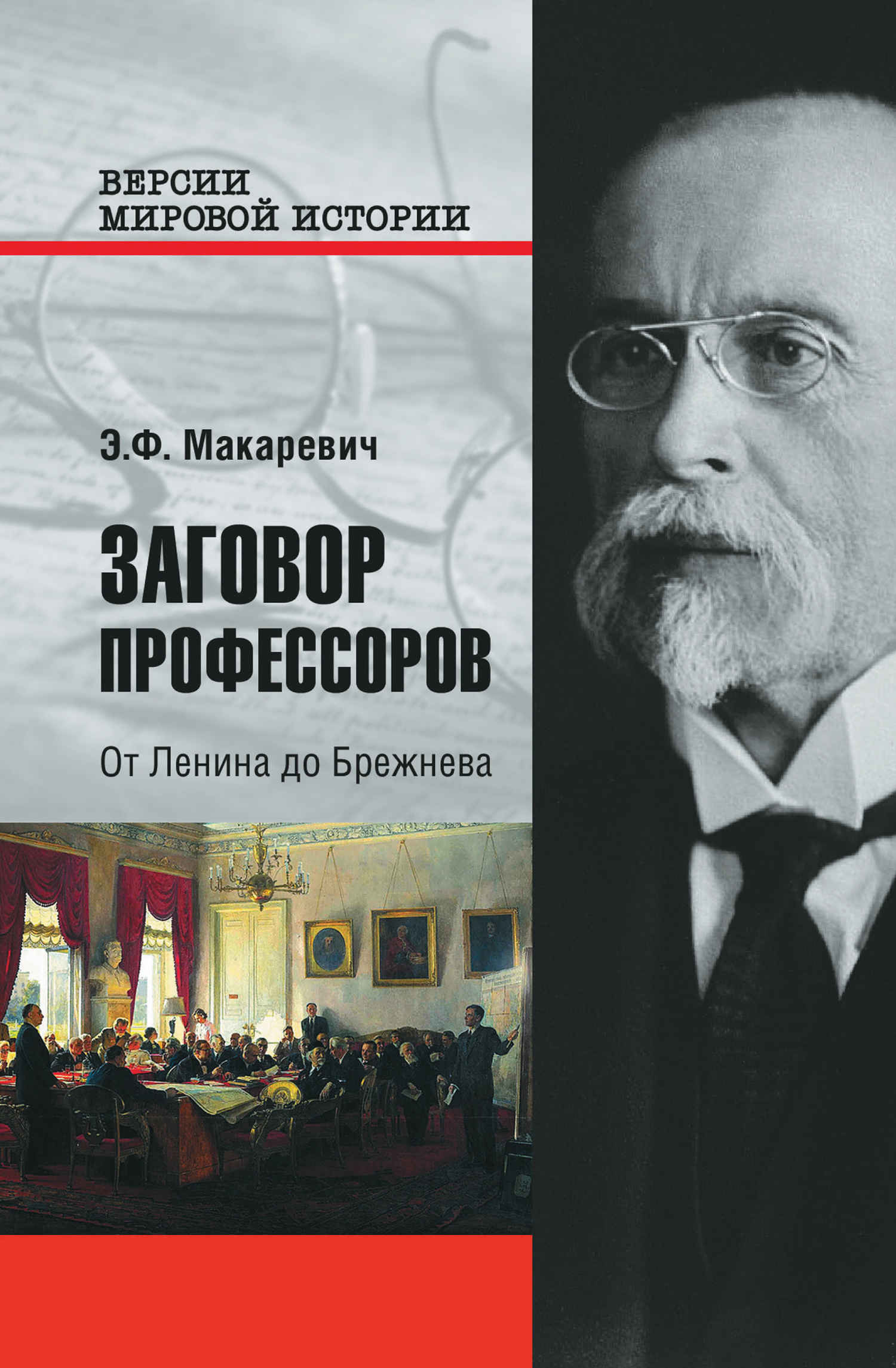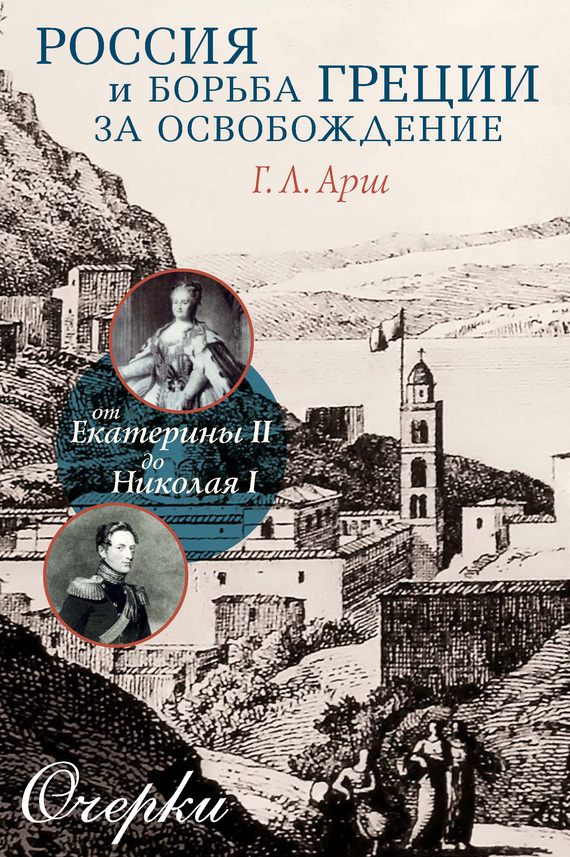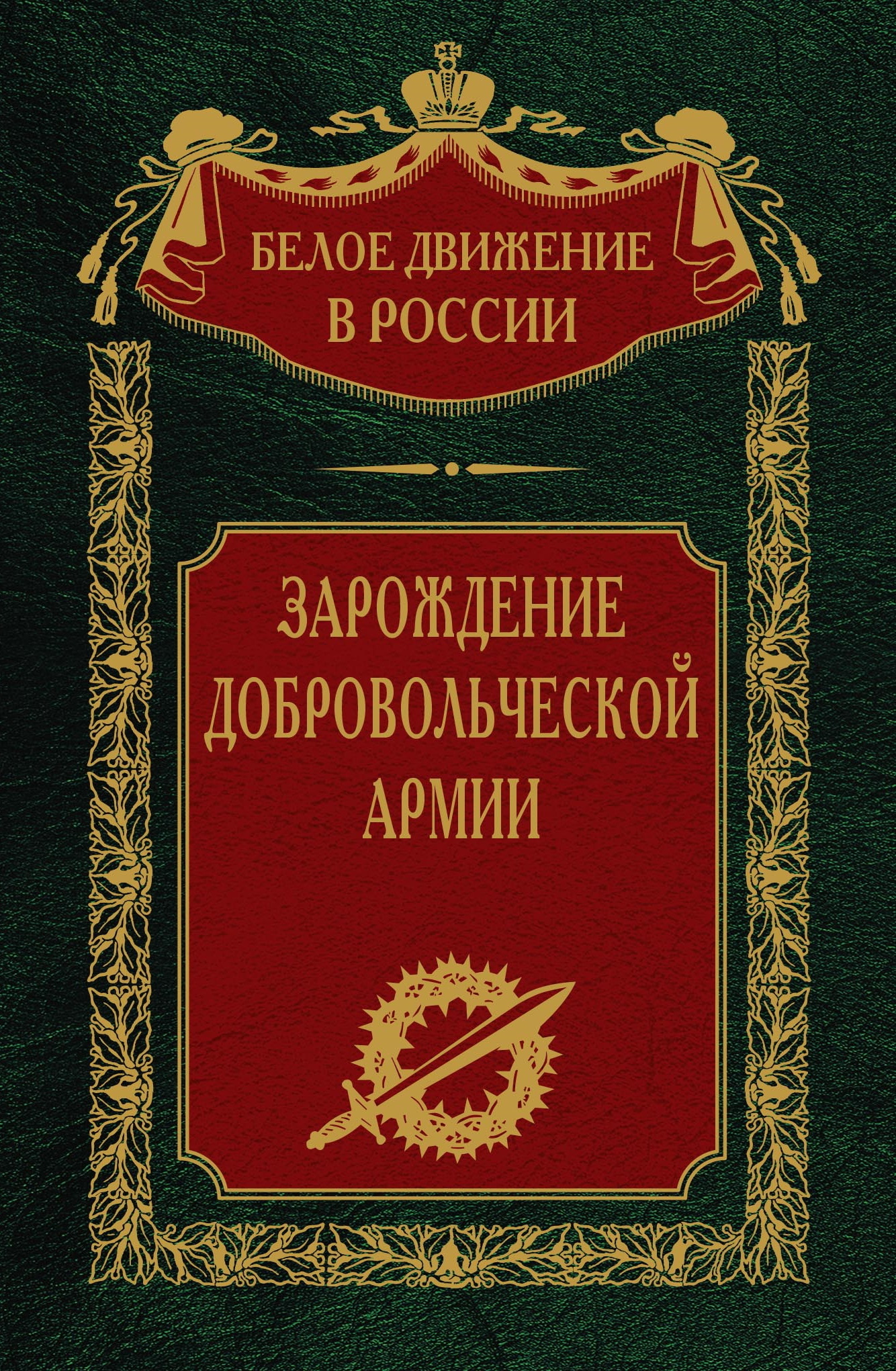Книга На заре красного террора. ВЧК – Бутырки – Орловский централ - Григорий Яковлевич Аронсон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Новый случай стрельбы в камеру анархиста Барона. Он и так был издерган — у него недавно расстреляли жену и брата по делу подпольных анархистов в Москве, а тут пуля ударила в стену у самой койки, на которой лежал Барон. Ему только оставалось реагировать резким протестом, и он послал ядовитое письмо своему бывшему приятелю Полякову. На другой день ему объявили, что он лишен на 10 дней прогулок и изолирован от всей фракции. Конечно, фракция анархистов вся отказалась гулять.
В эти дни произвели повальный и тщательный обыск в Централе. Должен сознаться, что при всей тщательности моя коробка с зубным порошком, в двойном дне которой искусно были спрятаны всякие бумаги, не была замечена. Но во время обыска случился ряд инцидентов. Левая эсерка отказалась дать себя обыскивать, а один меньшевик отказался снять сапоги, говоря:
— Снимите сами, если вам это нужно…
Обоих наказали лишением прогулок, и, разумеется, фракции целиком их поддержали. Так случилось, что все мы в течение некоторого времени совсем не гуляли. Это памятно мне, потому что стояли последние погожие дни. Мы вступали в осень. К 6-ти часам вечера уже становилось совсем темно. Дули холодные ветры. Октябрь.
На уголовном коридоре
Скоро восемь часов вечера. Прозвонил колокол. Идет поверка. Темно. В коридоре нет освещения. Недавно начали проводку электричества, но лампочек нет и дело застопорилось. У нас в камерах большей частью коптилки-самоделки, работы одного металлиста меньшевика. У меня в виде исключения хорошая керосиновая лампочка. К двери подходит дежурный чекист и шепчет:
— Приехали из Губчека, сейчас вас возьмут.
Больше он ничего не знает. В полном недоумении я все же освобождаюсь от лишних вещей. Пересылаю соседу свою коробочку с зубным порошком, двойное дно которой чудесно скрывает наиболее ценные записи. Действительно, зампредгубчека, директор, солдаты, надзиратели приближаются к моей камере. Начальство предлагает мне выйти из камеры. Все мои вопросы остаются без всякого ответа:
— Куда? — спрашиваю я.
— Мы предлагаем вам выйти из камеры без всяких разговоров, иначе придется применить силу.
— Но по чьему распоряжению вы действуете, ВЧК или собственному?
— Это мы вам сказать не можем.
И вся эта банда обнюхивает и ощупывает мои вещи. У меня нет настроения вступать в физическую борьбу. Знаю, что дело безнадежное, и мое сопротивление может только втянуть в тяжелую историю других издерганных и измученных товарищей. Начинаю собирать и складывать вещи, но директор легким жестом останавливает меня:
— Вещей не надо, они останутся тут.
Я все-таки беру с собой самое ценное: сапоги, лампочку и «Детство и отрочество» Толстого. Прохожу по балкону нашего этажа и говорю товарищам, следящим за мной: «Не унывайте!».
Кругом растерянные, беспомощные взоры. Все убеждены, что увели на расстрел. Как оказалось, кроме меня, взяли еще старосту анархистов Барона и бундовца И.В. Светицкого, члена бюро фракции. Слухами всегда тюрьма полнится, и на утро уже все политические знали, что нас ночью расстреляли.
В действительности, нас поместили совсем недалеко, в другом флигеле одиночного корпуса, на уголовный коридор. Помню, открывается дверь, и я со своей лампочкой, Толстым и сапогами попадаю в дюжие лапы двух незнакомых тюремщиков. Оба огромные, рыжие ребята из бывших фельдфебелей старого режима с жадностью набросились на меня, стали раздевать, прощупывать до боли. У меня на голом теле был арестантский наряд и легкие туфли на босу ногу. Скрыть в этой одежде ничего невозможно, но тюремщики долго меня мучили. Особенно приглянулись им мои бедные сапоги: они тщательно выстукивали их, подозревая, что главное скрыто в подошве. Мое терпение лопнуло, и я обратился к зампредгубчеке с вопросом:
— Чего вы ищете? Динамита? Неужели вы не понимаете, что он мною хорошо спрятан?
Чекист распорядился закончить обыск. Захлопнулась дверь, и я остался один. Откровенно говоря, ночь была неспокойная. Как потом оказалось, мои соседи, как и я, были полны того же предчувствия: не пройдет ночь, как нас выведут в расход. За что? Вероятно, это месть представителям заключенных за все — за голодовку, за шум по случаю стрельбы, за побег из тюрьмы, за резкие заявления наши, в которых мы непочтительно пробирали местное начальство, ВЧК, ВЦИК и коммунистов вообще. Так и осталось до сих пор неизвестным, за что нас покарали и по чьему распоряжению.
Итак, мы на уголовном коридоре, изолированы от всех своих товарищей и друг от друга. Нас считают смертниками, обреченными; не сегодня-завтра нас увезут. Надзиратель боится с нами разговаривать. У камеры поставлен специальный часовой с винтовкой, ежеминутно заглядывающий в глазок с мыслью, как бы арестант не убежал. Старший по корпусу и дежурный чекист часто проверяют, на месте ли мы. Изолированные друг от друга, мы отдельно гуляли, и отдельно выпускали нас на оправку. Но время делает свое. Уже на следующий день чекист принес нам хлеба из общего коридора, — там узнали, что мы живы, и блокада была прорвана. В тот же день мне принесли мою постель, а через неделю и все вещи, уже подвергнутые генеральному обыску, и я начал устраиваться на новом месте серьезно и деловито. Неожиданно Светицкого увезли в Москву и понемногу рушились стены между мною и Бароном. Мы стали делиться припасами, общаться через стражу. Нас стали выводить вместе на прогулку под присмотром надзирателя. Помаленьку стража начала свыкаться с нами, стала добродушной и легче на подъем. Караульный закуривает папиросу, ими, меня снабдили на всякий случай товарищи из фракции. Всегда голодный надзиратель охотно доедает мой обед и ужин, от которого меня воротит. Если бы они не боялись и не трепали чекиста, нам удалось бы и здесь в конец расшатать режим. Чекисты совсем сбиты с панталыку, они никак не могут взять с нами надлежащий тон. Вчера еще мы — первые люди в тюрьме, политические старосты; сам Поляков нас ублажал, и чекисты, в сущности, побаивались нас, а теперь… мы как бы сановники в опале, и чекистам трудно разобраться, что нам можно и чего нельзя.
От всех политических в тюрьме мы были совершенно изолированы. И в прачечную, и в баню нас водили отдельно, как особо важных преступников. Смешно вспомнить, как все помещения бани, с таким трудом отапливаемой в эти дни, часа на полтора отводились в наше распоряжение; в предбаннике все время дежурили караульный солдат и надзиратель. Именно по дороге в прачечную и баню нам обычно