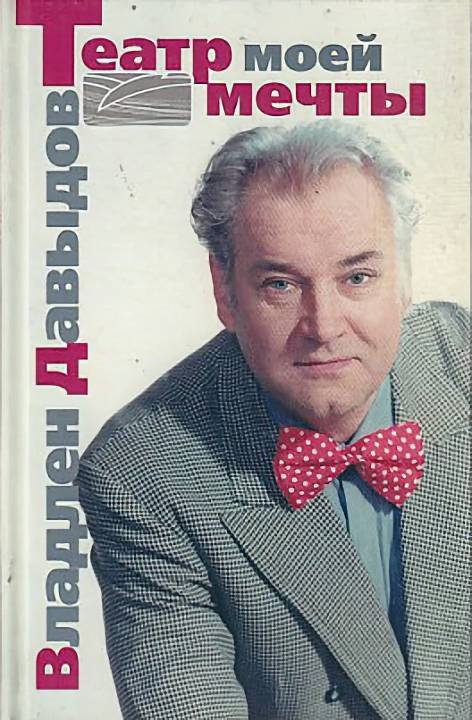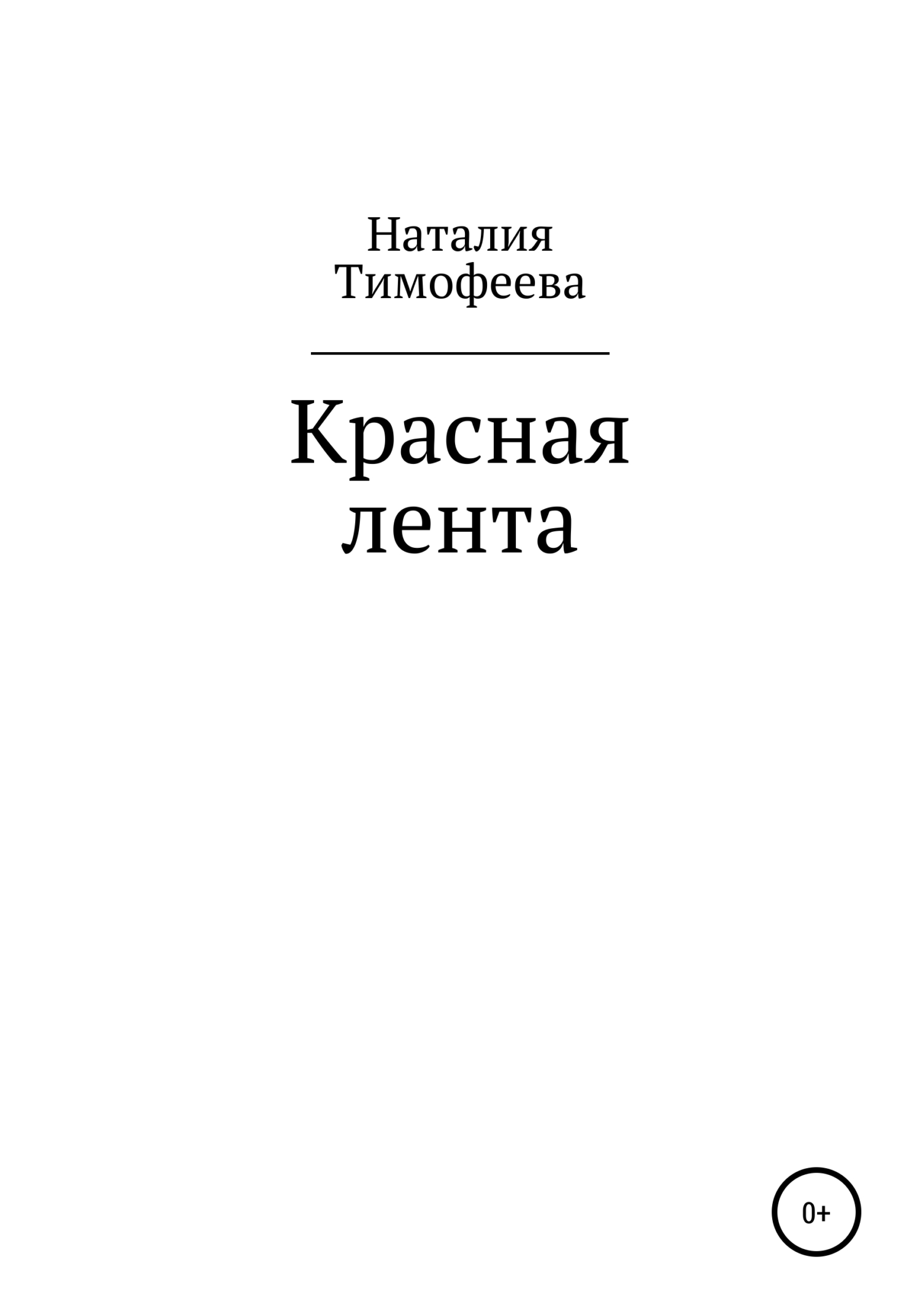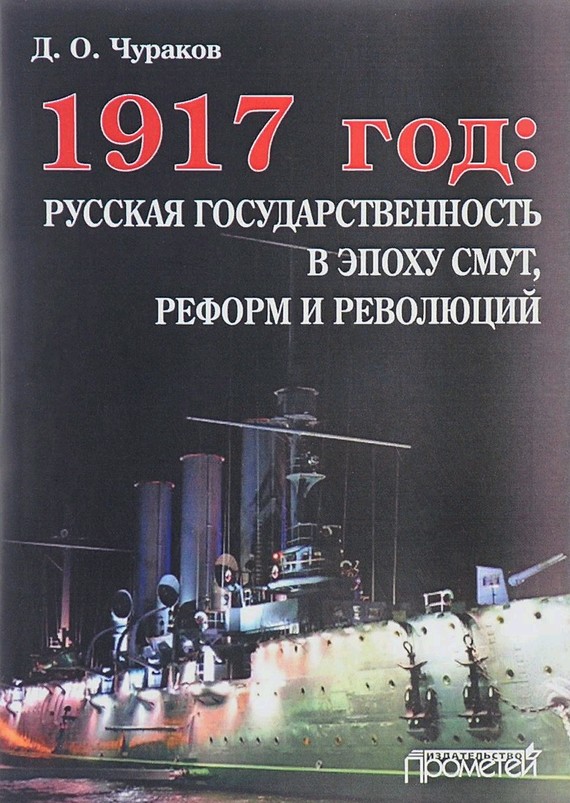Книга Серьезное и смешное - Алексей Григорьевич Алексеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вот, Алеша, был я дородный, а теперь стал народный!
И обещал к следующей встрече быть и народным и дородным…
Ушел я в чудесном, приподнятом настроении, зараженный неистощимым оптимизмом этой ласковой души.
А через день пошел я еще к одному если не другу, то приятелю — Владимиру Александровичу Азову. Я заранее предвкушал, что у этого умного, культурного и вполне современного человека, написавшего ряд остроумных политических памфлетов после падения царизма, услышу последние эпиграммы и насмешки над растерявшейся буржуазией, издевку над спекулянтами, полные сарказма анекдоты про эмигрантов, а увидел… растерявшегося буржуя, спекулянта и будущего эмигранта. Перед отъездом в Киев в 1917 году я жил у него на Фонтанке. Элегантный петербуржец, немного сноб, Азов был ценителем и собирателем старинного русского фарфора, знатоком французской и английской литературы. И вот теперь встречает меня… Плюшкин.
Помните, у Гоголя: «…весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей». И дальше: «…лицо его не представляло ничего особенного… Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего был состряпан его халат… На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук…» Как будто Гоголь с Азова писал!
И сидел этот Азов — Плюшкин у печурки-буржуйки и помешивал палочкой в консервной банке. Поговорили, вспомнили его пьесы, которые шли у нас в театре.
— Чего это вы так опустились, Володя?
— Да вот… Квартиру продал, одна комната только моя… Фарфор тоже проел…
— Где работаете?
— Нигде.
— Чем же живете?
— Получаю паек в Доме ученых, а главным образом я… спекулянт. Валютчик.
— Что-о?
— Именно то… Здесь у меня валюта. (Он вынул из-под диванного валика пачку банкнот.) Один знакомый информирует меня о настроениях на черной бирже, а я покупаю и продаю, продаю и покупаю… Видите: кроны, фунты, доллары… «Этим и живу. А вот это — варю бобы из посылки «АРА»[8], выдают в Доме ученых…
— А почему вы так одеты?
— А какого черта одеваться при них?!
— Странное рассуждение. А почему вы не работаете?
— А вы работаете?
— Конечно.
— А я ни при них, ни от них ничего не желаю.
— Но вы же «от них» берете паек!
— За этот паек работать?
— Но не можете же вы, Азов, всерьез валютчиком быть?
— Могу! Назло!
— Кому?
— Им! Себе! Всему свету!
— И так и будете? И писать не собираетесь?
— Собираюсь. (Он усмехнулся.) Собираюсь… туда! Аркадий уже там, в Париже. (Это он про Аверченко.) Надежда Александровна тоже. (Про Тэффи.) Проклинаю себя, что остался… Ах, дурак, дурак… Крысы умнее, бегут с тонущего корабля, а этот корабль неминуемо потонет…
И он стал размешивать свою АРА», этот недоэмигрант. Впрочем, скоро он стал настоящим эмигрантом…
…И шел я от него по пустым улицам голодного города и увидел в пустой витрине заколоченного магазина множество крыс. И крысы эти разевали рты и злобно шипели на проходящих. Казалось, тоже собираются в эмиграцию…
Потом позвонил я второму петербургскому другу — Юрию Михайловичу Юрьеву. О, с этим подружиться было гораздо труднее, чем с душой-человеком Дедом. И внешне и внутренне он всегда был, как говорится, застегнут на все пуговицы. Всегда немного чопорный, под старость он стал медлительным, цедил слова, прерывал сам себя каким-то «мда-а», и, обращаясь к нему, мы в шутку называли его генералом. Но в 1921 году этот сорокадевятилетний генерал был необычайно моложав и полон энергии.
Вот кто никогда и ни при каких обстоятельствах не поступался своими принципами в искусстве! Он, может быть, последний на русской сцене романтик, страшно злился, когда ему приклеивали ярлык «хранителя традиций каратыгинской школы пафосной декламации». Но, конечно, играя классических героев, он всей душой старался уйти от домашней, обыкновенной, опрощенной читки стиха и даже прозы. Все — каждая интонация, каждый жест — было у него выверено до мельчайшей детали, он отрицал игру по вдохновению и прекрасно играл… по вдохновению!
В 1918 году он наконец, после долгих лет мечтаний, сыграл Эдипа. На премьере весь трепетал от волнения, в антракте упал в обморок, играл, как сам потом говорил, не контролируя себя, и играл замечательно! А потом играл холодно…
Когда я позвонил ему, он не подошел к телефону — волновался, отдыхал, готовился к спектаклю и просил прийти вечером в Большой драматический театр, где он в то время служил, что я с удовольствием и сделал. А удовольствие было большое. Кто играл! Отелло — Юрьев, Дездемона — Мария Федоровна Андреева, Яго — Николай Федорович Монахов!
После спектакля у себя дома Юрий Михайлович разошелся — шутил, рассказывал смешные эпизоды из своей театральной жизни. Один из этих рассказов, очень характерный для Юрия Михайловича, мне особенно запомнился. Рассказ о том, как он был приглашен в летнем сезоне сыграть несколько раз немецкого наследного принца в пьесе «Старый Гейдельберг». Я видел его в этой роли. Влюбленный юноша, романтик, веселый, компанейский студент — и все же принц, немецкий принц… Юрьев играл и молодую восторженность, и влюбленность, и придворную торжественность в присущих ему сдержанных тонах: не пугал и не смешил.
Сборы были плохие, и антрепренер стал намекать, что ни пьеса, ни гастролер не оправдывают себя. И произошел, как рассказывал Юрий Михайлович, такой диалог:
— Хотите, Иван Иванович, сыграю на сборы?
— Как это?
— Вечером увидите.
И вечером он играл «на полный ход». Конечно, без вульгаризации, без грубого нажима, а просто в другом ключе: вместо лирики — сентиментальность, вместо интимных переживаний — бурные страсти, все это абсолютно в рамках театрального приличия, но подчеркнуто.
После спектакля прибежал антрепренер.
— Юрий Михайлович! Вы кудесник! Смотрите, что делается. Смеются! Плачут! Прелесть! Ну теперь пойдут сборы! Я всегда говорил, что Юрьев — чудный артист! Прошу вас сегодня отужинать со мной!
И вот во время этого ужина-надежды, ужина-поощрения Юрьев, выслушав все панегирики, сказал своим чопорно-холодным тоном:
— Так вот, уважаемый Иван Иванович, должен вас предварить, что таким образом играть я больше никогда не буду…
В этом весь Юрьев!
Когда пришел к концу срок моей командировки и надо было возвращаться в Москву, у меня заболела нога. Так как ни трамваев, ни извозчиков в Петрограде не было, потащился я пешком в домашней туфле с Лиговки на Дворцовую площадь в учреждение,