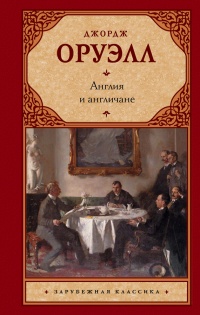Книга Славно, славно мы резвились - Джордж Оруэлл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Буря» в театре «Олд Вик» – не исключение. Все сцены с участием Стефано и Тринколо испорчены привычной клоунадой и завываниями на сцене, не говоря уж о шуме и ужимках, ставших, кажется, излюбленным развлечением зрительской аудитории «Олд Вик». Что же касается Ариэля и Калибана, то они словно и вовсе только что сбежали из цирка. Да, это трудные роли, но нет никакой нужды превращать их – как в нынешнем спектакле – в гротеск. Калибан предстает совершенной обезьяной, разве что хвоста не хватает, а лицо его, что явно бросается в глаза, покрыто какими-то омерзительными пятнами. Уже одно только это способно разрушить роль, даже если бы исполнитель произносил свои реплики более ритмично. Ариэль, раскрашенный почему-то в пронзительно-голубые цвета, до крайности манерен и избыточно демонстрирует свои гомосексуальные наклонности в духе Питера Пэнси.
Джон Гилгуд, в роли не столько престарелого, сколько просто пожилого Просперо, сведя всю эту абракадабру до минимума, оказался на голову выше своих партнеров по сцене. Мисс Джессика Тэнди – Миранда – хорошо произносит свой текст, но на эту роль не годится. Ни у какой Миранды не может быть голубых глаз и светлых волос, точно так же, как Корделия не может быть брюнеткой. Лучшим элементом представления стала звучащая время от времени музыка, гораздо больше соответствующая романтической обстановке места действия пьесы, чем оформление спектакля. Ну а в целом – с самыми добрыми намерениями задуманное представление, которое лишний раз показывает, что Шекспира – за вычетом примерно пяти-шести наиболее широко известных пьес – ставить нельзя до тех пор, пока широкая публика не возьмется за его чтение.
Пьеса ужасов, в чем-то, возможно, обязанная своим появлением «Пути в никуда». Шестеро путешественников случайно оказываются взаперти в несуществующей сельской гостинице, где прямо перед ними разыгрывается сцена убийства, случившегося ровно год назад. В результате решаются разнообразные личные проблемы, которые привели сюда каждого из них. Диалог убедителен, хорошо воссоздана таинственная атмосфера действия, но слабость пьесы заключается в том, что проблемы всех шестерых главных персонажей таковы, что всерьез их принять решительно невозможно. Священник утратил веру, потому что его брат умер от пневмонии, юная красавица – светская львица – находит, что жизнь ее пуста, и так далее. Хоть действие пьесы происходит в 1940 году, война в ней даже не упоминается, ни прямо, ни косвенно; мирная буржуазная жизнь, где все интересы сосредоточены вокруг финансового успеха, автомобилей, разводов и так далее, явно представляется как нечто вечное и несокрушимое. Мисс Луиза Хэмптон прекрасно сыграла роль Джоанны Спринг, успешной журналистки и редактора «Женской странички» («Пишите обо всем тетушке Мэгги»), но и исполнение, и вообще игра актеров заслуживают лучшей драматургии.
«Тайм энд тайд», 8 июня 1940 г.
Франция, 1918 год. Чарли Чаплин в серой полевой форме и немецкой стальной каске на голове тащит Большую Берту всякий раз, стоит ей выстрелить, плюхаясь на землю. Чуть позже, заблудившись в пороховом дыму, он оказывается среди идущих в атаку американских пехотинцев. Далее вместе с раненым штабным офицером летит в перевернувшемся вверх брюхом аэроплане, причем так долго, что успевает удивиться, отчего это часы его упорно висят на конце цепочки не там, где им положено. Наконец, вывалившись из аэроплана и очутившись в яме с помоями, он теряет память и на двадцать лет оказывается в психиатрической больнице, совершенно не отдавая себе отчета в том, что происходит в мире.
Только здесь, по существу, фильм и начинается. Хинкель, диктатор Томании, оказывающийся двойником Чарли (играющего обе роли), организует масштабную карательную акцию против евреев как раз в том момент, когда Чарли, к которому возвращается память, тайком бежит из психлечебницы и возвращается в свою маленькую парикмахерскую, расположенную на территории гетто. Следуют несколько впечатляющих сцен противостояния штурмовикам, сцен, не менее, а быть может, как раз более трогательных благодаря своей юмористической окраске, когда трагедия еврейского гетто происходит на фоне бурлеска: переворачиваются ведра с известковым раствором, героя колотят по голове сковородкой. Но лучшие фарсовые вставки – те, где действие переносится во дворец Диктатора, особенно когда в нем участвует его злейший враг Напалони – диктатор государства Бактерия (играющий эту роль Джек Оуки внешне даже более похож на Муссолини, чем Чарли на Гитлера). Очень забавный эпизод случается за ужином, когда Хинкель, совершенно поглощенный стремлением переиграть Напалони, не замечает, что вместо сметаны добавляет в блюдо с клубникой горчицу. Вот-вот состоится вторжение в Остландию (Австрия), и Чарли, арестованный за сопротивление штурмовикам, бежит из концлагеря в украденной военной форме как раз в тот момент, когда Хинкель должен пересекать границу. Его принимают за Диктатора и под восторженный рев толпы доставляют в столицу покоренного государства. Маленький парикмахер-еврей оказывается на монументальном возвышении, позади него в ряд стоят нацистские бонзы, внизу выстроились шеренги солдат: все ждут его победоносной речи.
И тут-то наступает самый драматический момент фильма. Вместо речи, которой от него ожидают, Чарли произносит другую речь – гимн демократии, терпимости и обыкновенным приличиям. Это поистине потрясающая речь – в своем роде геттисбергское обращение Линкольна[85], выдержанное в стиле голливудского английского, едва ли не самая убедительная пропаганда, с какой мне приходилось сталкиваться за долгое время. Сказать, что эта сцена выпадает по тону из всего фильма, значит, по сути, почти ничего не сказать. Она вообще не имеет с ним ничего общего, за исключением разве что сновидческой связи, – сна, в котором вы сейчас, вот в этот момент, являетесь китайским императором, а в следующий превращаетесь в сумчатую соню. Нить киноповествования рвется безнадежно, дальнейшего развития сюжет не получает, и фильм просто сходит на нет, оставляя зрителя в неведении, произвела ли речь желаемый эффект или нацисты, собравшиеся на трибуне, распознают самозванца и убивают его на месте.
Насколько хорош этот фильм просто как фильм? Я бы погрешил против совести, не отметив в нем крупных просчетов. Да, он хорош почти на каждом своем уровне, но уровней так много, что цельности в нем не больше, чем, допустим, в пантомиме. Иные из начальных эпизодов – это просто давно знакомый Чарли Чаплин, каким мы его видели в двухчастевках тридцатилетней давности, – котелок, разболтанная походка и так далее. Сцены в гетто – сентиментальная комедия с уклоном в фарс, эпизоды с участием Хинкеля и Напалони – просто дешевка, и на все это накладывается вполне серьезное политическое «обращение» к зрителю. Чаплин, похоже, не слишком охотно пользуется новейшими достижениями кинематографической техники, потому-то его фильмы движутся как бы рывками, возникает впечатление, будто эпизоды сшиты на живую нитку. Но в «Диктаторе» Чаплину удается этого избежать. На просмотре для искушенной публики – прессы, – где оказался и я, зрители хохотали, почти не умолкая, и были явно тронуты заключительной речью героя. В чем состоит особенный талант Чаплина? В его умении отразить самую суть рядового человека, ту неистощимую веру в добро, что сохраняется в сердцах обычных людей, во всяком случае, на Западе. Мы живем во времена, когда демократия почти повсеместно сдает свои позиции, третьей частью всего мира управляют супермены, свободу забалтывают лощеные профессора, а пацифисты потворствуют антисемитизму. И тем не менее повсюду, где-то на глубине, рядовой человек упрямо остается верен убеждениям, почерпнутым из христианской культуры. Рядовой человек мудрее интеллектуала, точно так же как животные мудрее людей. Любой интеллектуал в состоянии сварганить роскошное «дело» против нападок на немецкие профсоюзы и гонений на евреев. Но рядовой человек, не обремененный интеллектом и имеющий в своем распоряжении только инстинкт и традицию, просто знает, что «что-то тут не так». Любой из тех, кто не утратил нравственного чувства – а школа марксизма и подобных ему учений базируется в основном на уничтожении нравственного чувства, – знает, что «неправильно» врываться в дома безвредных лавочников-евреев и жечь их мебель. Как мне кажется, обаяние Чаплина заключается даже не столько в его комическом даре, сколько в способности утвердить во всей его неотразимости тот факт, что предан забвению и фашистами, и, как ни странно, социалистами, а именно: vox populi est vox Dei[86], а исполины – хищники.