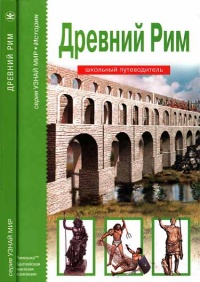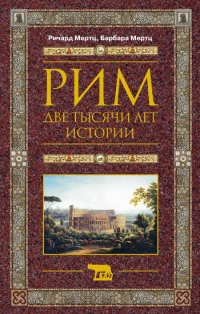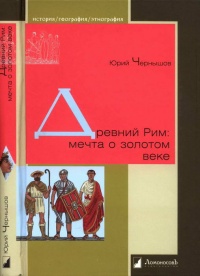Книга Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда - Игорь Чубаров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Этим интуициям раннего Маркса вполне адекватны положения о независимости искусства от государства, высказанные футуристами в первые годы советской власти, и формалистская идея автономии социальных рядов. Но им резко противостоит более поздняя концепция базиса и надстройки с принципиальным материальным редукционизмом, только замаскированным диалектикой обратных отношений с надстройкой.
Жак Деррида в «Призраках Маркса»[158], ссылаясь на работы М. Бланшо, отмечает эту гетерогенность марксизма, обусловившую его взаимно противоречивые исторические интерпретации. Речь идет о неразрешимом противоречии в марксизме между революционной теорией, постулирующей возможность изменения природных законов бытия в социальной сфере постольку, поскольку они противоречат сущности человека как свободного существа, и его научным монистическим характером, который восстанавливает эти законы на следующем витке исторического развития. На этот же момент в связи с извращением марксизма у Ф. Энгельса обратил внимание ранний Лукач в «Истории и классовом самосознании»[159].
Но акцент на единообразии социальных и природных законов устанавливает совершенно иного типа связь между описанными в раннем марксизме частями человеческого мира и эксплицирует принципиально иную антропологию и эстетику. Здесь мы не будем разбирать попытки разрешить эти противоречия в диалектическом материализме советских времен. Для нас важно, что отмеченным гетерогенным сторонам марксизма соответствуют и совершенно противоположные подходы к искусству.
Очевидно, что проект русского авангарда коррелировал только с первой из отмеченных сторон марксизма. Придание же логике революции законосообразного квазиприродного характера неизбежно устанавливало главенство единого принципа отражения в эстетике, а значит, и консервативную миметическую программу подражания идеям-образцам. Уничтожение статуса автономии искусства и утверждение его подчиненного, зависимого от претендующего на тотальность социально-политического бытия положения в 1930-е годы явилось только логичным следствием этой идеи.
Можно согласиться с позицией О. Ханзена-Леве[160], что социальная утопия Маркса и неомарксизма носила во многом эстетический характер, ориентируясь на некий эстетический идеал вещи, в которой человек мог бы узнать самого себя, т. е. художественной вещи, и соответствующего понимания труда как творчества. Проблема состояла в том, что само творчество традиционно понималось в марксизме как труд, только не отчужденный. Именно подобное некорректное смешение понятий, пути которых исторически разошлись, позволило раннему Марксу провозгласить оптимистический тезис победы над рутинным трудом при коммунизме в перспективе его машинизации. Но эта же неразличенность художественного творчества и труда, так называемый монизм труда, явившийся следствием общефилософских материалистических установок марксизма, стал главной причиной дальнейших упрощений этой темы у позднесоветских марксистских теоретиков. Вообще ограничение Марксом области отчужденного труда только капиталистическим производством и проект реабилитации труда в условиях производства социалистического не оставили левому авангарду никаких шансов на выживание в 1930-е годы.
Интуиция русского авангарда шла вразрез с политически ориентированным марксистским дискурсом, согласно которому искусство могло революционизироваться как бы автоматически, через воздействие базиса (новых производственных отношений) на надстройку, частью которой якобы выступает искусство. Речь идет об интуиции неизбежного отчуждения человека в трудовом процессе как в рациональном подчинении мира и противопоставления ему художественной практики как альтернативы. Все романтические и идеалистические издержки этой мысли ко времени ее возрождения в кругах русских футуристов и формалистов были учтены и сняты в той же феноменологической философии и марксизме. Поэтому совершенно справедливая претензия Лукача к романтизму XIX в. (глава «Овеществление и сознание пролетариата» в книге «История и классовое сознание»[161]) в постреволюционной ситуации Советской России уже не работала. Футуристы искали выход из лукачевской альтернативы в марксистской по происхождению идее «жизнестроительства», совмещенной с идеей автономности социального ряда, которую выдвинули формалисты. Основой различия позиций здесь выступало иное понимание человеческой деятельности, по преимуществу творческой. Последняя противоположна труду по целому ряду характеристик, важнейшей из которых является его источник и отношение к конечному продукту. Ибо труд служит, в конечном счете, удовлетворению материальных потребностей и накрепко привязывает человека к природе, несмотря на все отличия от других природных существ. То же самое следует сказать и о различии конечного продукта в искусстве, в котором он носит неутилитарный характер, и продукта труда, который потребляется моментально, хотя и может выступать непосредственно непотребляемым звеном в цепи потребления.
Но главное отличие продукта творчества от продукта труда состоит в тождественности художественного продукта самому его производству. В том смысле, что произведение искусства именно и есть этого искусства про-изведение. Не об этом ли писал Шкловский: «Искусство есть способ пережить деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно»[162]? Эта идея выводит нас к принципиально новому по сравнению с предшествующей традицией пониманию художественной вещи как события и чувственно-телесного становления, противостоящему одновременно объективизму и потребительско-эстетическому отношению к искусству.
Именно иное понимание практики в искусстве, противоположный труду способ производства вещи и связывает принципиально понятия отчуждения и остранения. Остранение и отчуждение характеризуют два разных способа опредмечивания человеческой практики. Но было бы неверно противопоставлять творчество и труд как два независимых ствола исторически расколовшейся человеческой практики. Отношения между ними сложно опосредованы, и подобные эксклюзивные различения являются не более чем абстракцией[163].