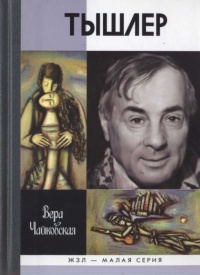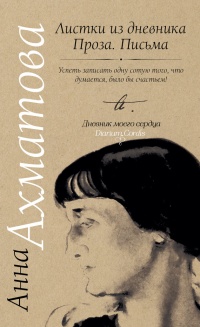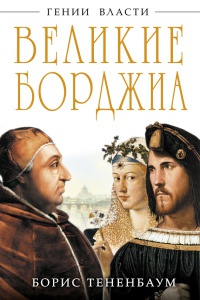Книга Лабас - Наталия Семенова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Всю жизнь Лабас старался заглянуть в будущее. Не только передвижников, но и бубновалетовцев считал вчерашним днем: новой эпохе — новая пластика художественного языка, отсюда — необычные ракурсы и приемы монтажа. Девиз «Время, вперед!»[83] очень бы подошел Лабасу-художнику. Не случайно ведь Георг Гросс[84] еще в начале 1920-х годов сказал ему: «Вы чувствуете свое время и современную технику лучше любого американца». Однако для пролетарских масс лабасовский язык был чужим и непонятным «языком оторванного советского интеллигента». В каком таком соку варятся «эти художники» и «из каких источников они питают свою фантазию, свои ассоциации», вопрошал критик Альфред Курелла. Ответ был очевиден: в современной французской живописи и немецком экспрессионизме. Музей живописной культуры, во главе которого сначала стояли Кандинский и Родченко, потом Лев Вайнер (тот самый, отправивший в 1920 году молодого Шуру Лабаса профессорствовать в Екатеринбург), а затем вхутемасовцы Вильямс, Тышлер, Никритин и сам Лабас, получал последние номера французских и немецких журналов (Caheiers d’Art, Art decorative, Kunst), так что в курсе происходящего молодежь была[85]. Ну и, само собой, регулярные походы в Музей новой западной живописи, в щукинскую и морозовскую галереи.
В годы, когда документ стал заменять литературу, а фотография — живопись, когда к тематической цензуре добавилась эстетическая, следовало бы писать проще. Однако Лабас продолжал размышлять о «внутреннем ритме» и о том, что цвет и линия могут быть в гармонии, а могут — в противоречии; что даже в столкновении друг с другом рисунок может быть мягче, мелодичнее, а цвет — динамичнее, решительнее и т. д. При этом тематика картин оставалась самой что ни на есть современной. В 1931 году, отчитавшись за командировку в «районы индустриального и колхозного строительства» картинами «Дирижабль и детдом», «Электрификация в Белоруссии» и «Первый паровоз на Турксибе», Лабас отправляется за материалом на западную границу, где в то время проходят военные маневры. Он рисует повсюду: в танковом подразделении (начальником штаба 45-го механизированного корпуса был Абрам Лабас, его старший брат), в авиационных частях, во время воздушной тревоги и переправы через Буг. Другой бы сосредоточился на военно-патриотической теме, а Лабаса занимают исключительно «цветовой строй» и «симфония красок». Цикл «На маневрах», исполненный в момент утверждения принципов «социалистического реализма», никак не вяжется с его постулатами. Солдаты в противогазах напоминают инопланетян, а огромное многофигурное полотно «Противовоздушная оборона» (погибшее во время войны) получилось настолько трагичным, что художника обвинили в нагнетании военной истерии. «Я реально представил, как это могло быть действительно, и картина получилась страшная, однако никакой паники в ней не чувствовалось. Лентулов, Кончаловский, Вильямс, Фаворский, Павел Кузнецов и Эфрос ее горячо приняли. Ахровцы же, у которых было большинство голосов, придумывали разные поводы, чтобы только не показывать картину на выставке. Не надо пугать публику, говорили они, войны нет и не предвидится, а тут такие страсти. А всего спустя десять лет страсти были посерьезней, чем на моей „Противовоздушной обороне“».
Тем временем ОСТ, как и все художественные и архитектурные объединения, самораспустился, и уже в июне 1932 года был создан Московский союз советских художников (практически все, кто считал себя художником — около 600 человек, — были приняты в МОССХ). Лабаса включили в состав экспозиционно-оформительской комиссии выставки «Художники РСФСР за 15 лет»[86], вместе с которой он осенью уехал в Ленинград[87]. Председателем комиссии был И. Э. Грабарь, а Сергей Герасимов, Истомин, Павел Кузнецов, Лабас, молодой московский критик Андрей Чегодаев и несколько ленинградцев назначены «бригадирами». Впервые за 15 послереволюционных лет художники всех течений и направлений выставлялись вместе. С большим трудом, но жюри сумело соблюсти баланс сил при явном перевесе тех, кого Лабас причислял к «противоборствующей партии». «Во время развески в Русском музее всем бросилось в глаза, что картины Лентулова, Кончаловского, Шевченко, Кузнецова, Петрова-Водкина и наши, бывших ОСТовцев, выглядят светлее и праздничнее, а работы бывшего АХРР — более темными, даже мрачными. Федя Богородский[88] захотел полностью изменить экспозицию. Но Грабарь категорически отказался, сказав, что дело не в развеске, а в живописи, которую АХРРовцы строят только на светотени». Зато полгода спустя, когда выставка переехала в Москву, Богородский сотоварищи взяли реванш: многие работы в экспозицию не включили вообще, а некоторых формалистов нарочно выставили в отдельных залах — «в назидание» молодым. Из двадцати работ Лабасу оставили десять: ни «Первый паровоз на Турксибе», ни «Утро на аэродроме», ни «Переправа через Буг» на выставку не попали.
Московская версия выставки «Художники РСФСР за 15 лет» открылась в Историческом музее в июне 1933 года, а кампанию против художников-формалистов запустили еще весной. Возглавить «движение» было поздно, но присоединиться, заработав неплохой капитал, — самое время. Лабас сам был свидетелем тому, как Богородский провоцировал пришедшего на выставку Горького на разговор о формализме. «„Как вы думаете, Алексей Максимович, эти работы формалистические? Вот видите, как это написано“, — спрашивал Богородский, останавливаясь то у одной, то у другой картины. — „Я вам не репортер и не могу вот так на бегу посмотреть и высказать свое мнение, — отвечал пролетарский писатель. — Знаю, что вам от меня нужно. А потом будете говорить: „Горький так сказал!““».