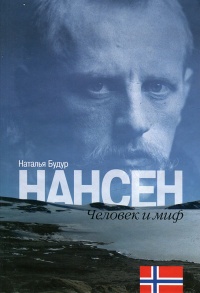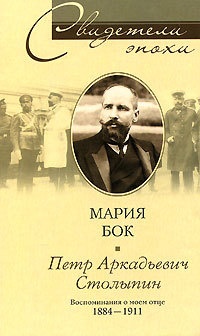Книга Агония Российской Империи. Воспоминания офицера британской разведки - Робин Брюс Локкарт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Маршал был откровенно пессимистичен. Последующее вступление Румынии в войну оправдало его пессимизм. Ни во что не ставил румынскую армию. Союзную дипломатию в Румынии он ставил еще ниже. Вся сила его негодования была обращена против французского и русского посланников, взаимная антипатия которых позволяла германофильской партии вклиниться между двумя влияниями.
— Англии, — говорил старый солдат, — не суждено сыграть исторической роли в Румынии. Воздействовать на нее она может лишь красотой своих сынов. Ей следовало бы послать румынскому двору своего самого красивого военного атташе.
В результате доклада генерала По в Румынии произошли перемены. В качестве своего нового военного атташе Англия послала туда полковника Томсона, который стал затем личным другом мистера Рамзея Макдональда, лейбористским пэром и министром, и который погиб во время злополучного полета на дирижабле Р-101.
У меня сохранилось мало воспоминаний о втором Рождестве войны, кроме разве того, что оно было веселым. Русские, правильно или неправильно, никогда не портили своих праздников угнетенным настроением и никогда не пытались искусственно поддерживать военный пыл. Они были недисциплинированны, аморальны и индивидуалисты чистой воды.
1 января 1916 года жена и я провели весь день в официальных визитах — одна из немногих скучных обязанностей официальной жизни в России. Новый год, очевидно, не только меня побудил к хорошим намерениям, потому что заметки в моем дневнике на январь необычайно оптимистичны. Два фактора обусловили эту более здоровую атмосферу. Наш греко-русский друг Ликиардопуло только что вернулся из своего рискованного путешествия по Австрии и Германии. Он был послан туда союзниками для разведывательной работы и, переодетый греческим торговцем табака, посетил крупные города обоих государств. «Лики» оставил Москву глубоким пессимистом, убежденным в непобедимости германского оружия. Вернулся он оптимистом, твердо уверенным в том, что Германия переживает большие трудности, чем Россия, и что Россия может дольше выдержать. В том, что касается снабжения, он был безусловно прав. Чего он не учел — это разницы степени сопротивляемости обоих народов.
Привезенные им новости наполнили, однако, Москву бодростью, и в течение пяти недель он был национальным героем. Еще более ободряющим был прием императором князя Львова и Челнокова в ставке в Могилеве. Организован он был генералом Алексеевым, начальником штаба и ярым патриотом, который питал презрение солдата к русским политиканам средней руки. Пока великий князь Николай Николаевич был главнокомандующим, Союзы земств и городов направляли свои ходатайства лично ему. Отношение императора к ним было хуже. Не одобряя различные принятые ими политические резолюции, он до сих пор отказывался видеть их. Поэтому в Могилев они приехали, чтобы встретиться с генералом Алексеевым, а не с императором. В качестве московского городского головы Челноков привез с собой привет армии от «сердца России» и официальную резолюцию Городской думы, провозглашающую войну до победного конца. Генерал Алексеев, зная о громадной работе, проделанной этими крупными общественными организациями по снабжению армии, решил восстановить добрые отношения между императором и обоими союзами.
— С императором все благополучно, — заявил он обоим москвичам. — Единственная помеха — это шлюхи, которые вертятся около него. Обождите здесь, а я снесу ему резолюцию.
Он сейчас же вернулся с распоряжением к Челнокову явиться к императору. Когда широкоплечий городской голова вошел в комнату, резолюция лежала на столе императора.
— Почему эта прекрасная резолюция не была послана прямо мне? — спросил царь.
Челноков пробормотал несколько неуклюжих извинений по поводу нарушенного им этикета и затем сказал, что если Его Императорское Величество разрешит, то он тут же передаст приветствие и прочтет резолюцию. Царь разрешил и был очень доволен. Он сказал:
— Я согласен с каждым словом в этой резолюции. Мир не может быть заключен, пока не будет достигнута полная победа. Вы совершенно правы, выражая свою благодарность Англии. Мы должны преклонить пред ней колени.
Затем царь стал расспрашивать Челнокова о положении в Москве. Городской голова заметил, что там нет топлива и ощущается недостаток продовольствия вследствие плохой работы железных дорог и что при сложившихся обстоятельствах приходится считаться с возможностью волнений в течение зимы. Император ответил, что, если народ мерзнет и голодает, к нему нельзя быть слишком суровым, даже если он прибегает к насилию. Затем он с подозрением в голосе спросил, не преувеличивает ли городской голова.
Челноков ответил — нет.
Тогда царь заметил:
— Все, что я могу сделать для смягчения этого положения, будет сделано.
Я получил полный отчет об этом посещении, как только Челноков вернулся в Москву. Оба — князь Львов и он — серьезные бородатые люди, без капли легкомыслия, радовались, как школьники. Они вернулись из ставки с сердцем, преисполненным оптимизма. Император был великолепен.
Их собственная работа могла беспрепятственно развиваться. Армия была на их стороне. Что значит теперь Санкт-Петербург? Армия гораздо важнее и могущественнее любого правительства. Увы, большие надежды, возлагавшиеся на это посещение, оказались жестоко обманутыми. Император уже не мог избежать своей судьбы, уготовленной ему назревающей трагедией. Немного здравого смысла, несколько слов похвалы со стороны императора оказались бы достаточными для того, чтобы стянуть к трону лояльные патриотические элементы русского народа. Как мало потребовалось бы усилий! Я видел это по энтузиазму двух общественных деятелей, которые по своему темпераменту были гораздо менее революционны, чем мистер Ллойд Джордж, и были против своей воли вовлечены в революцию, став ее первыми жертвами. Однако усилие это превосходило способность императора к предвидению. Старая система продолжала жить. Повсюду общественные силы встречали противодействие. Всякий им симпатизирующий министр мог быть уверен, что рано или поздно он будет уволен в отставку. И по мере того как один за другим исчезали патриоты и верные люди, трехсотлетние верноподданнические чувства подрывались отчаянием. В моем собственном сознании ощущение неминуемой катастрофы становилось все сильнее и сильнее. Понятно, внешне я должен был всегда казаться ультра-оптимистичным, спокойно уверенным и непоколебимо убежденным в конечной победе союзников. И, хотя мой действительный оптимизм ограничивался Западом, мне приходилось симулировать возрастающую веру в Восток.
В феврале 1916 года меня несколько раз вызывали в Санкт-Петербург. У нас в ходу был новый план: официальное Бюро британской пропаганды в Санкт-Петербурге под руководством английских журналистов. Хью Вальполь и Херольд Вильямс (лучший и наиболее скромный из британских экспертов по России) были его главными инициаторами. Затем должно было быть организовано отделение в Москве. Оно должно было находиться под моим надзором, и в качестве пропагандиста я пригласил Ликиардопуло. В Санкт-Петербурге Бюро пропаганды было строго официальным учреждением с специальными отделами и собственным персоналом. Я создал свою организацию в Москве из недр генерального консульства без всякой помпы и огласки. В этой области я был в состоянии оказывать значительное влияние на местную прессу и накачивать ее официальной пропагандой без того, чтобы она это почувствовала. Мне нравилась эта часть моей работы, хотя она требовала большого такта, в особенности, когда дело дошло до выборов литературной делегации из московских журналистов, которую мы посылали в Англию, согласно нашей новой политике. Доминирующей идеей было то, что когда эти писатели увидят, как напрягает свои силы Англия, они напишут об этом в русской прессе, и тогда нам реже придется слышать о том, что англичане держат свой флот под стеклянным колпаком и что они решили бороться до последней капли русской крови. Один из писателей, которого я пригласил или которого мне было предложено пригласить, был граф А.Н. Толстой, гладкий, жирный представитель богемы с большим литературным талантом, но с сильным пристрастием к жизненным благам. Граф Толстой ныне, чтобы не потерять этих благ, примирился с большевиками и за счет одной или двух пьес против Романовых сумел остаться буржуазным индивидуалистом в стране, где даже литература коммунизирована.