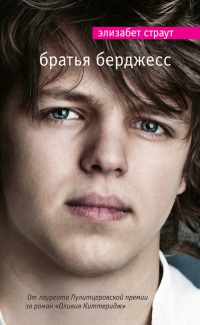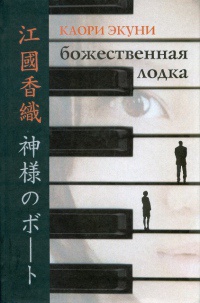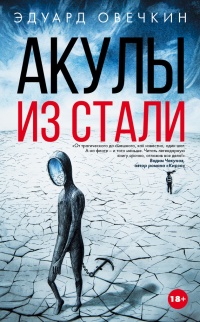Книга 22:04 - Бен Лернер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я поднял руку, чтобы обратить на себя внимание официантки, а затем повертел в руке опустевший стакан.
– Угадай, в чем состояла его обязанность на следующий день во время похорон? Ему дали нюхательную соль, и он должен был ходить туда-сюда и совать ее под нос женщинам, которые от переживаний лишались чувств или приходили в полуобморочное состояние. Вообрази себе: папе двадцать лет, он втайне, не роняя ни слезинки, горюет о своей матери, а тем временем идет заупокойная служба (притом что его мать никакой службы не удостоили), и его задача – давать нюхать какое-то вещество тем, кто так заходится в плаче, что падает в обморок. Эту часть истории мне уже доводилось слышать, хотя она никогда не действовала на меня так сильно, как в тот вечер, когда мы ехали домой сквозь ледяной дождь на похороны Дэниела; но тут мой отец начал рассказывать мне ту часть, которой я еще не знал.
Официантка принесла мне стакан, и я попробовал питье; на сей раз оно оказалось слаще. Внимание, с которым слушала меня Алекс, выразилось в том, что она не притрагивалась к своей газировке. Она умеет держаться до того тихо, что это воспринимается как милость.
После похорон, рассказывал мне папа, семья осталась сидеть семь траурных дней в этом огромном доме в Олбани, а мне надо было сначала ехать поездом до Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке, а потом другим поездом до Вашингтона. До Пенсильванского вокзала я добрался спокойно, несмотря на сильный снегопад, но на Пенсильванском была проблема с поездами – явно из-за погоды. Помню, как холодно мне было: ради похорон я надел свой единственный костюм, но мое зимнее пальто к костюму не подходило, поэтому я оставил его дома. К вашингтонскому поезду стояла громадная очередь – я никогда раньше не видел такой очереди к поезду на Пенсильванском вокзале, – и я потратил уйму времени, чтобы протиснуться на перрон. Там было черт знает что: давка, ругань. Оказалось, два предыдущих поезда отменили из-за обледенения рельсов или чего-то в этом роде, так что все теперь рвались на этот поезд, он был последний. Из-за наплыва пассажиров к нему даже прицепили добавочные вагоны – я их увидел, они выглядели такими древними, что казалось, это списанные вагоны девятнадцатого века. Я необычайно живо рисовал все это себе по дороге в Топику, сказал я Алекс, – может быть, потому, что окна машины запотели и за ними почти ничего не было видно, так что пейзаж меня не отвлекал. То, что я очень живо нарисовал себе эту картину в глубине бара напротив Алекс, может быть, объясняется его интерьером, сделанным под старину. Я вообразил (вероятно, взяв за основу кадр из видео Марклея) часы на здании Пенсильванского вокзала в тот вечер, когда мой отец пытался вернуться домой. Но даже несмотря на добавочные вагоны, рассказывал он мне дальше, когда я добрался наконец до двери одного из вагонов, у которой кондуктор проверял билеты, а полицейский, как мог, утихомиривал толпу, мне сказали, что поезд уже полон, что в нем просто-напросто больше нет мест и мне придется остаться в Нью-Йорке на ночь и ехать первым утренним поездом.
Вначале я почувствовал облегчение, рассказывал мне отец – рассказывал и не сводил глаз с подвижного отрезка дороги, который освещали его фары, а тем временем морось в этом световом пятне переходила в снег. Я не хотел возвращаться в дом, где нет мамы, – к отцу с его чудны́м нежеланием признать смерть жены, к моим сбитым с толку младшим братьям, с которыми мне надо было пытаться вести себя так, будто все, что происходит, нормально. Но потом – и это меня самого, помню, удивило – я сильно разозлился и так решительно обратился к кондуктору, что не только он, но и еще двое-трое повернулись и посмотрели на меня. Я заявил: как хотите, а я еду на этом поезде. Думаю, меня вполне могли принять за психа. Нет, сынок, боюсь, не едешь ты на нем, сказал мне кондуктор после того, как оглядел меня, сказал мне мой отец, сказал я Алекс, и, может быть, на меня подействовал его доброжелательный тон и слово «сынок» – в общем, буквально секунду спустя я прямо на перроне расплакался. Разрыдался не на шутку: слезы, сопли и все такое, стою там, мерзну в своем костюмчике, в грудном кармане, может быть, еще лежит нюхательная соль, и все, что я в себе подавлял, все чувства, которыми хотел поделиться с Рейчел, когда позвонил ей в день смерти моей матери и ее отца, чувства, которые я держал в себе во время заупокойной службы и похорон, – все это хлынуло наружу. А потом я говорю кондуктору: «Ну пожалуйста, очень вас прошу, моя мать умирает. Мне надо домой, мне надо вернуться домой вовремя, очень вас прошу». Повторял и повторял: «Моя мать умирает». И ведь было полное ощущение, что говорю правду: словно она не была мертва, а только умирала, словно поезд действительно мог доставить меня к ней вовремя. Или перенести меня в прошлое.
С минуту мы с Алекс сидели в тишине, я пил свой коктейль, она свою газировку, и я положил руку на стол так, что она касалась ее руки: хотел дать ей понять, что думаю и о ее маме. Дальше мой отец просто вел машину, поскрипывали «дворники», он молчал, словно вся история уже была рассказана, так что наконец я спросил: а потом? Потом, сказал он, как будто спохватился, меня пустили в поезд, в один из прицепленных вагонов, и около меня села пожилая женщина, которая слышала мою истерику на перроне. Она, помнится, принесла мне из вагона-ресторана чай и печенье, и я немалую часть дороги проспал у нее на плече. Помню, она несколько раз мне сказала: твоя мама поправится, все будет хорошо.
Я допил свой напиток, нечаянно проглотив листик мяты.
– А мы тем временем ехали не туда, между прочим.
– Как не туда?
– Мой отец целый час углублялся в штат Миссури; его так увлек собственный рассказ, что он пропустил поворот на Топику.
– Может быть, его в Вашингтон потянуло?
А потом, словоохотливый от выпитого, я рассказал ей про Нур и про миссис Мичем, а она рассказала мне одну историю про свою мать, но заставила клятвенно пообещать, что никогда не включу эту историю ни во что – даже в завуалированном виде, даже изменив все имена, даже будучи сверхосторожным в описаниях внешности.
Круговой маршрут, проходящий через несколько музейных помещений, дает посетителю возможность проследить эволюцию позвоночных, двигаясь от этапа к этапу; экспозиции справа и слева демонстрируют ископаемые останки существ с теми или иными характеристиками – например: «четыре конечности с подвижными суставами и мускулатурой» (четвероногие). Уплатив почти пятьдесят долларов, я купил два билета в Американский музей естественной истории, чтобы мы с Роберто смогли осмотреть скелеты и кости, увидеть, как в ходе эволюции развивались новые свойства. Эту экскурсию я не раз ему обещал на протяжении месяцев и предложил наконец его матери, когда она однажды забирала его после занятий со мной; она или забыла на несколько недель о моем предложении, или долго его обдумывала, но потом сообщила мне через Аарона, какие субботы (воскресенья отдавались церкви и семье) у мальчика свободны. Я позвонил ей, чтобы договориться окончательно: я буду ждать ее и Роберто у ближайшей к ним станции метро (Тридцать шестая улица в Сансет-Парке, линия D), а дальше мы с ним поедем вдвоем с пересадкой на C на Западной четвертой в Музей естественной истории на Верхнем Вест-Сайде. Проведем в музее час, другой, третий – столько, насколько хватит его внимания, потом где-нибудь поедим (я буду помнить о его аллергии), и во второй половине дня я привезу его обратно. Предполагалось, что с нами поедет Джазмин, старшая сестра Роберто, – главным образом, думалось мне, ради того, чтобы Аните было спокойнее, – но, объяснила мне Анита, когда мы обменялись приветствиями по-испански у входа в метро, у Джазмин, которая работала в ресторане «Эпплбиз» во Флэтбуше, неожиданно изменили график. Когда Анита передавала на мое попечение вибрирующего от предвкушения Роберто, мне показалось, что она немного нервничает.