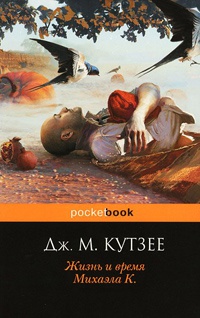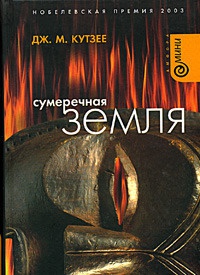Книга Бесчестье - Джозеф Максвелл Кутзее
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ладно, пошли. Я готов.
— Костюма ты с собой не привез?
— Нет.
— Тогда хоть галстук надень.
— А я-то думал, что мы в деревне.
— Тем больше причин приодеться. Для Петраса это большой день.
Люси берет с собой маленький фонарик. Тропинкой они доходят до дома Петраса, отец и дочь, рука в руке, дочь освещает путь, отец несет подарок.
Они останавливаются, улыбаясь, у открытой двери. Петраса не видно, впрочем, к ним выходит девочка в вечернем платье и вводит их в дом.
У старой конюшни нет потолка, да и пола-то толком нет, однако она по крайней мере просторна и по крайней мере освещена электричеством. Лампы под абажурами и картинки на стенах (подсолнухи Ван Гога, написанная Третчиковым[30]женщина в синем, Джейн Фонда в костюме Барбареллы[31]и забивающий гол Доктор Кумало[32]) смягчают общую унылость картины.
Кроме них, белых здесь нет. Гости танцуют — под старомодный африканский джаз, который он слышал из кухни. На него и Люси бросают любопытные взгляды, хотя, возможно, все дело в повязке на его голове.
Некоторых женщин Люси знает. С другими ее знакомят. Затем около них обнаруживается Петрас. Он не разыгрывает гостеприимного хозяина, не предлагает им выпить, но говорит:
— Собак больше нет. Я больше не собачник.
Люси предпочитает счесть это шуткой; значит, все, надо думать, в порядке.
— Мы вам кое-что принесли, — говорит Люси, — хотя, возможно, лучше отдать это вашей жене. Это для дома.
Петрас, обернувшись к кухне, если это так у них именуется, подзывает жену. Он впервые видит ее вблизи. Молодая женщина, моложе Люси, с лицом скорее приятным, чем красивым, застенчивая, несомненно беременная. Она пожимает руку Люси, но не ему и в глаза ему не глядит.
Люси произносит на коса несколько слов и вручает женщине сверток. Вокруг уже собралось с полдюжины зрителей.
— Она должна его развернуть, — говорит Петрас.
— Да, вы должны его развернуть, — говорит Люси.
Осторожно, стараясь не надорвать подарочную бумагу, разрисованную мандолинами и веточками лавра, молодая жена Петраса разворачивает сверток. На свет появляется кусок ткани с довольно милым ашантским[33]орнаментом.
— Спасибо, — произносит женщина по-английски.
— Это покрывало на постель, — объясняет Петрасу Люси.
— Люси наша благодетельница, — громко объявляет Петрас и затем, обращаясь к Люси: — Вы наша благодетельница.
Безвкусное, на его взгляд, слово, двусмысленное, испортившее эту минуту. И все же можно ли винить Петраса? Язык, которым он с таким апломбом пользуется, давно уже — знал бы об этом Петрас! — стал изношенным, рыхлым, как бы изгрызенным изнутри термитами. Только на односложные слова и можно еще полагаться, да и то не на все.
Что тут делать? Ничего такого, что способен придумать он, бывший преподаватель методов передачи информации. Ничего, разве вот начать сызнова, с азов. Но ко времени, когда вернутся длинные слова — воссозданные, очищенные, внушающие доверие, — он будет уже мертвецом с солидным стажем.
Он вздрагивает, будто пронизанный хладом могилы.
— Ребенок... когда вы ожидаете ребенка? — спрашивает он у жены Петраса.
— В октябре, — встревает Петрас. — Ребенок родится в октябре. Надеемся, мальчик.
— О! А что вы имеете против девочек?
— Мы молимся о мальчике, — говорит Петрас. — Всегда лучше, если первенец мальчик. Тогда он сможет объяснить сестрам... объяснить, как себя вести. Да. — Петрас примолкает. — Девочка больно дорого обходится. — Он потирает указательным пальцем о большой. — Все время деньги, деньги, деньги.
Давно уж не видел он этого жеста. В прежние дни им часто пользовались евреи: деньги-деньги-деньги, и так же многозначительно покачивали головами. Но Петрас, по-видимому, не осведомлен об этом остаточном европейском наследии.
— Мальчики тоже порою недешевы, — замечает он, дабы внести свой вклад в беседу.
— Купи им то, купи им это, — продолжает Петрас, входя во вкус избранной темы и больше уже не слушая собеседника. — В наши-то дни мужчина больше не платит за женщину. Я плачу. — Он поводит рукою над головой жены; та скромно потупляет взор. — Я плачу. Хоть это и старомодно. Платья, хорошие вещи, все время одно и то же: покупаешь, покупаешь, покупаешь. — Он опять потирает пальцем о палец. — Нет, мальчик лучше. Ваша дочь исключение. Ваша дочь ничем не хуже мальчика. Почти! — Он заливается смехом, радуясь собственному остроумию. — А, Люси?
Люси улыбается, но он знает, что дочери неловко.
— Пойду потанцую, — негромко произносит она и уходит.
Взойдя на танцевальный помост, она танцует одна — солипсическая манера, похоже, вошедшая в моду. Вскоре к ней присоединяется молодой человек, высокий, гибкий, опрятно одетый. Он танцует прямо перед Люси, прищелкивая пальцами, улыбаясь ей, ища ее расположения.
Снаружи начинают подходить женщины с подносами жареного мяса. Аппетитные запахи наполняют воздух. Появляются все новые гости, молодые, шумные, раскованные, нимало не старомодные. Праздник набирает обороты.
В руках у него оказывается тарелка с едой. Он протягивает ее Петрасу.
— Нет, — говорит Петрас, — это для вас. А то мы так и будем всю ночь передавать друг другу тарелки.
Петрас с женой уделяют ему немалое время, стараясь, чтобы он здесь освоился. Милые люди, думает он. Сельские жители.
Он оглядывается на Люси. Молодой человек танцует уже в нескольких дюймах от нее, высоко вздергивая колени, притопывая, покачивая руками, наслаждаясь своими движениями.
На тарелке, которую он держит в руках, две бараньи отбивные, печеный картофель, тонущий в мясном соке рис, ломоть дыни. Он находит свободный стул и разделяет его с изможденным стариком, у которого слезятся глаза. Придется съесть это. Съесть, а там уж просить о прощении.
Внезапно рядом с ним возникает Люси, она часто дышит, лицо застыло.
— Давай уйдем, — произносит она. — Они здесь.
— Кто «они»?
— Я видела одного из них там, за домом. Дэвид, я не хочу поднимать шум, но давай уйдем, сейчас же.
— Подержи-ка. — Он вручает Люси тарелку и выходит через заднюю дверь.