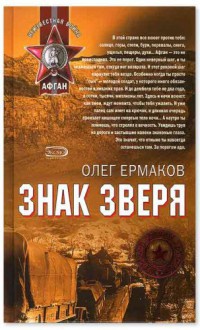Книга Абсолютное соло - Роман Сенчин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Присаживайтесь, – привстав, он жестом предложил девушке соседнее место. – У нас, – взглянул на часы, – тридцать минут.
– Да, я помню, – кивнула она, вытаскивая из рюкзачка цифровой диктофон, – до половины одиннадцатого.
Сергей Олегович улыбнулся:
– Совершенно верно. – И заметил: – Отличная аппаратура. Ваш?
– Диктофон? Нет, редакционный.
Девушка нажала кнопочку, взглянула на крошечный зеленоватый экранчик, быстро раскрыла блокнот и без прелюдий начала:
– Сергей Олегович, как стало известно, вы репетируете спектакль по своей собственной пьесе, и главную роль должна сыграть ваша дочь. Расскажите подробнее, о чем пьеса и почему ваш выбор пал именно на дочь?
– Гм… М-да… – Он не был готов к такому напору – это даже не вопрос, а требование тут же всё объяснить. «Как следователь», – пришло сравнение, и Сергей Олегович почувствовал, что начинает вскипать. – Странная резвость, позвольте заметить.
– В смысле? – Девушка наморщила лоб и взглянула на него, как на капризного старикана, с которым приходится по долгу службы общаться.
– Видите ли, – нервно подвигался в кресле Стрельников, вытряхнул сигарету из пачки, – вы, уважаемая… Кста-ати! – Голос его зазвенел от негодования. – Вы даже представиться не соизволили!
– Даша.
– Теперь это неважно.
Он понял, что ничего не скажет этой девчонке, бесцеремонной и по существу совершенно равнодушной к нему, к его театру, к тому, каким получится интервью. Какой-нибудь завотделом культуры набросал ей вчера темы вопросов, а она их теперь механически озвучивает… Он часто встречал подобных людей – они попадались и среди журналистов, и актеров, и парикмахеров, и среди консультантов где-нибудь в компьютерном магазине – для них было важно быстро сделать свое дело, отчитаться и забыть. К человеку они подходили так же, как к кофейному автомату. А он таких ненавидел.
– Прошу прощения, но с вами беседы у меня не получится. Всё, до свидания, – сказал жестко и сухо, закурил и перевел взгляд на темную, пустую сцену, давая понять, что больше не замечает девицу.
Минуту посидев рядом, она фыркнула, поднялась и ушла. Слава богу, сообразила, что настаивать бесполезно. Неглупая, наверно, по существу-то, но – хамка… Сергей Олегович затушил в пепельнице почти целую сигарету, глубоко выдохнул, прикрыл на минуту глаза, заставляя себя забыть об этом инциденте и провести драгоценные минуты одиночества, как всегда, – в сладостном ожидании репетиции, в воспоминаниях.
Да, в последнее время, когда жизнь его вошла в ровную, надежную колею, ему часто вспоминалось прошлое, люди, которые были рядом с ним, но или исчезли, или погибли. И на сегодняшнее интервью он согласился в основном для того, чтобы вслух покопаться в памяти, вновь выстроить хронологию своей жизни, а потом уж, может быть, рассказать о том, над чем сейчас работает, какие имеет планы…
Из нынешнего благополучного времени его судьбу можно назвать правильной и легкой, каждый поступок – как доказательство теоремы. Сегодня казалось, что он методично, ступень за ступенью поднимался выше и выше, лишь иногда останавливаясь и передыхая, затаиваясь, чтоб не спихнули… Постепенно устанавливались отношения с сильными мира, постепенно укреплялась, цементировалась труппа – от многих, с кем Сергей Олегович начинал, пришлось позже избавиться: люди отличные, верные, но как актеры они были неисправимо слабы. Тот же тщательный отбор проходили и пьесы, составлявшие репертуар студии и годами не сходящие со сцены.
Еще задолго до того, как всерьез заняться театром, он чутьем угадал, что становиться откровенным диссидентом не стоит даже не из-за угрозы преследований, а потому, что это помешает ему работать. И он ставил спектакли по вроде бы вполне разрешенным произведениям, но так, что они были невозможны для легального показа. Играли где придется, билет обычно стоил десять рублей… И в итоге он оказался прав, балансируя между открытой враждебностью к строю и неприемлемыми для этого строя, но в общем-то безобидными сценическими экспериментами… Его друг еще с юности и тоже андеграундный режиссер Женька Ищенко с самого начала избрал другой путь – явно антисоветские пьесы, инсценировки запрещенных романов и повестей. И очень быстро его заперли в психбольницу, подержали там около года, несколько раз предлагали уехать на Запад, а когда он окончательно отказался и не исправился – посадили. Якобы за фарцовку… Через четыре года, уже перед самой перестройкой, он вышел, несколько лет бегал по разным собраниям, произносил длинные злые речи; в августе девяносто первого чуть не уехал в Москву (супруга не отпустила), потом активно порадовался свободе и – замолчал. А несколько месяцев назад взял и написал в газете «Смена» нечто такое… Да нет, эти слова Сергей Олегович запомнил наизусть: «Драматический театр сегодня превратился в первостатейный бордель – ни капли мысли, ни толики искусства, зато в изобилии голые тела и глумление над всем, что было и еще есть светлого в бытии людей и в истории нашей великой, многострадальной Родины. И это глумление сегодня выдается за искусство! Мне очень жаль, что и я в свое время приложил руку к нынешнему безумию и кошмару». А вскоре после публикации этой статьи Женьку обнаружили соседи в коридоре коммуналки, где он жил. Женька сидел скорчившись возле двери, в руке была зажата бутылка водки. Купил, добрел до квартиры, даже дверь закрыл на оба запора, но в комнату войти не успел. Говорят, разрыв сердца…
А ему, Сергею Олеговичу Стрельникову, как оказывалось, всё шло на пользу. Всё помогало. Даже уход из семьи тогда, пятнадцать лет назад, позволял теперь общаться с Алиной скорее не как с дочерью, а как с человеком, которого он официально пригласил на роль (на центральную роль) в своем новом спектакле. И пригласил, все знали и он был уверен, не за то, что она его дочь, а потому, что подходит.
Сергей Олегович с юности пытался писать пьесы. Получались в основном короткие одноактовки, напоминающие плохие подражания Хармсу, и он без жалости рвал их, не раз зарекался больше пьес не писать: «Не мое». Но вот недавно вдруг как-то разом, легко, без подготовки и предварительных обдумываний написалась полноценная драма в четырех действиях. О девушке, попавшей без родителей в незнакомый ей маленький город и объявившей, что она из Франции – ее прадед и прабабушка эмигрировали после революции, а она вот решила вернуться. Ее тут же начинают уважать, расспрашивают о Париже, селят на квартиру к пенсионерке-учительнице; краевед ищет в документах фамилию девушки, ее дворянские корни; юноши пытаются за ней ухаживать, кое-кто даже ссорится и расстается со своими подругами. Девушка наслаждается всеобщим вниманием. А потом выясняется, что она из соседнего городка, дочь уволенного и спившегося офицера, мать куда-то исчезла, а девушка сбежала из дому. И ей начинают мстить за ее обман… Пьесу Сергей Олегович без затей назвал «Парижанка», а на роль этой девушки взял Алину. По крайней мере фактурой, душевным складом она – как раз в точку…
С самого ее рождения у Сергея Олеговича было к дочери сложное отношение. Те первые полтора года, когда он видел ее каждый день, Алина представлялась ему просто какой-то неизвестно зачем купленной, заводной куклой – она лежала в манежике то совсем как неживая, то начинала плакать и плакала, пока в ней не кончался завод, потом стала ползать по полу туда-сюда, агукать, лезть на колени. И какой-либо близости, любви Сергей Олегович к ней не испытывал – он вообще всегда относился к маленьким детям с опаской и брезгливостью; сначала думал, что по отношению к родному ребенку это пройдет, но вот не прошло. И в большей степени из-за нее, из-за дочки, требующей все больше внимания, захватывающей все большее пространство квартиры, он и ушел. В первое время был искренне уверен, что уходит на время, но быстро по-настоящему увлекся театром, увяз в той жизни, которой жило богемное подполье, и жена, дочка, квартира почти забылись, быстро стали ему чуждыми, лишними. И с усилием он приходил к ним, чтоб отдать деньги или, случалось, занять денег, поесть, погреться в домашнем уюте… И Ирина вскоре потребовала развод, потом у нее появился мужчина, этот тихий, правильный Борис Антонович. Семья стала для Сергея Олеговича отрезанным прошлым. Но в те редкие и короткие моменты, когда видел дочь, общался с ней, он чувствовал всё сильнее проявляющиеся в ней свои черты, и радовался этому, и в то же время пугался, ожидая, что затоскует по семейной жизни и захочет вернуть, как было… Слава богу, тоска не появлялась.