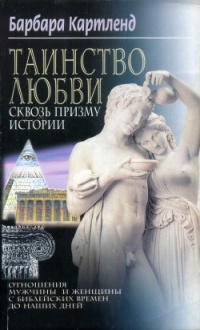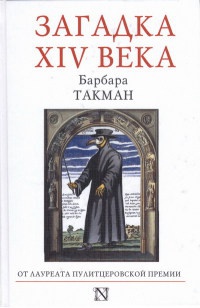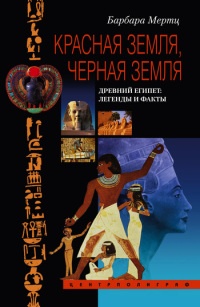Книга Ивановна, или Девица из Москвы - Барбара Хофланд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ивановны.
Барон Сколенберг графине Федерович
29 нояб.
Мадам,
Император повелел мне сообщить вам, что, к большому сожалению Его Величества, получено известие о том, что в последней успешной вылазке граф Федерович был ранен столь жестоко, что приходится говорить о нависшей над ним угрозе для его жизни. Если вы пожелаете навестить графа, мне приказано немедленно снабдить вас всем, что может ускорить ваш приезд. При сем остаюсь
Ваш Сколенберг.
Сэр Эдвард Инглби
достопочт. Чарльзу Слингсби
Петербург, 4 дек.
Поздравьте меня, дорогой Слингсби, с благополучным возвращением на живую землю! Еще более поздравьте меня с тем, что я столь же благополучно сопроводил сюда ярчайший бриллиант, которым только может похвастаться Россия! Но, увы! несчастья преследуют эту восхитительную жертву, и разочарование губит ее излишне оптимистичные и самые естественные надежды.
Наше путешествие было необычно долгим в связи с тем, что всех лошадей забрали на службу правительству, так что поездка в столицу оказалась весьма затруднительной. Мисс Ивановна переносила наши бесконечные неприятности с безмятежным спокойствием, что говорит как о ее природном самообладании, так и о благоприобретенной терпеливости. Но по мере приближения к цели нашего странствия всё более очевидным становилось ее желание прильнуть своей утомленной головой к нежной груди своей сестры, ставшей теперь для Ивановны целым миром.
Я ожидал испытать необычайное удовольствие от того, что стану свидетелем встречи этих обаятельных женщин после перенесенных ими жестоких испытаний. Посудите, каково было наше общее разочарование — а на самом деле просто горе великое, — когда нам сообщили, что именно в день нашего прибытия графиня в сильном расстройстве чувств вынуждена была отправиться в Моинитцу, поскольку невдалеке от этого города ее муж был жестоко и, как опасаются, смертельно, ранен.
Бедная Ивановна! Сердце мое истекало кровью за тебя, уверен, никогда еще ни один человек не выказывал большего благородства души, большей сердечной доброты, смиренности духа, чем ты в этот трудный момент! И не думая роптать по поводу своего собственного разочарования или сетовать на прибавление еще одного горя к уже пережитому, она лишь воскликнула: «О! моя бедная Ульрика! Почему я не появилась здесь раньше, тогда бы я смогла сопровождать тебя и разделить с тобой это горькое бремя».
Я старался утешить ее, и она принимала мои утешения, но это приносило облегчение скорее мне, нежели ей. Я видел, как страдает ее сердце от избытка тяжелых впечатлений. Ей казалось, будто она обречена на мучения и все стрелы из колчана несчастий направлены в ее беззащитную грудь. Никогда не забыть мне мертвенной смиренности ее взгляда, исполненного печали, но и кротости, этот взгляд укротил бы и разъяренного тигра — не удивительно, что я от него растаял, как баба. Да, Чарльз, могу сказать не краснея, что, глядя на нее, я заливался слезами от избытка эмоций!
Поступая соответственно свойствам своего характера, Ивановна вернула себя к жизни, чтобы подбодрить меня, чтобы убедить меня в том, что она в состоянии выдержать все, что ниспошлют ей Небеса. И как мило она благодарила меня за мою заботу о ней! И с каким великодушием уверяла меня, что дружба моя дорога ее сердцу и ныне являет собою источник утешения! Она даже настоятельно просила меня отвлечься и пыталась вернуться к обстоятельствам нашего путешествия, поскольку это могло увести нас от размышлений, к которым мы оказались не готовы. О, Чарльз, именно в такие минуты, как эти, женщина становится дороже всего мужчине и больше всего достойна уважения! Именно тогда она для него истинная подруга. Избавляясь от шипов, которыми усеян мир скорби, мужчина находит в нежности такой женщины бальзам, исцеляющий от забот, в ее терпеливости — стимул для его стойкости. Но насколько выше он ценит ее добродетели, когда знает степень ее усилий, прилагаемых ради него, и видит улыбку сочувствия на ее губах, когда знает, что ее бедное сердце готово разорваться от боли за него!
Пока великодушная Ивановна переживала свои горести, в комнату вошла служанка с прелестным младенцем на руках, мальчик тут же потянул свои крошечные ручки к Ивановне, несомненно приняв ее за свою мать, на которую она очень похожа. Ивановна вскочила, прижала драгоценное дитя к своей груди и залилась слезами, столь обильными, каких я в жизни не видывал. Удивленное и напуганное дитя обернулось к няне. Ивановна вынуждена была отдать младенца ей, но, по моей просьбе, та не ушла из комнаты. Я наблюдал, как Ивановна ежеминутно обращала свой взор к малышу; и, когда печаль ее утихла, нежное, прелестное чувство только что возникшей любви, смешанное с грустью, овладело ею и привело в состояние задумчивости, но она уже не выглядела несчастной.
В этом состоянии я оставил ее отдыхать, но был не так удивлен, как опечален, обнаружив, что два следующих дня она…[2]
Но и теперь, Чарльз, хотя ей лучше и она стала еще прекраснее, а на самом деле просто восхитительнее, чем прежде, тем не менее, сколь возвышенной она бы ни была, она всего лишь женщина, и кто знает, до каких пределов может простираться моя самонадеянность? Я искренне рад тому, что моя преданность ей остается до сих пор настолько «не смешанной с низменной материей», что позволяет мне выполнять обещание, данное графине Федерович, — оберегать Ивановну с братской заботой. Обещание, которое я не счел необходимым при тех чувствах, что испытывал тогда. Если бы только не предполагал, что обычные слова признательности по прочтении моего письма могут оказаться более теплыми, чем те, что соответствуют представлениям русских леди о простом уважении. К этому можно добавить, что Том всячески намекал, что ко мне вернулось то, что он называет моим недугом, и хотя я знал, что парень неправ, все-таки признаю, что все вульгарные умы занимают те же предрассудки.
Есть ли у нас какие-нибудь хорошие новости? И как возможно, чтобы я за все это время не рассказал вам, отчего так ярко светятся глаза Ивановны? Отчего ее милый ротик окружен такими очаровательными ямочкам?
«Смотрите, — сказала мне прекрасная Ивановна, — какое славное, успокаивающее письмо получила я от моей сестры! В нем говорится, что она нашла своего любимого Федеровича хотя и чрезвычайно нездоровым, но все-таки в лучшем состоянии, чем можно было предположить, и что теперь его доктора надеются на самый благоприятный исход. Разве это не чудная награда за все усилия Ульрики? Разве это не радостные известия, сэр Эдвард?»
«Конечно, самые что ни на есть радостные!» — отвечал я.
«Но это еще не все, поскольку, — ах! какое это счастье узнать, что мой брат жив! Я никогда не решалась говорить о нем с вами, потому что Ульрика не упоминала его в своем письме, и я поняла, что она молчит, страшась добить меня новой бедой, которую я не в состоянии была тогда вынести. Теперь же мне ясно, что она сама ничего не знала о судьбе брата, поскольку он страдал тогда от ран, угрожавших его жизни, и Федерович по доброте душевной держал ее в неведении. Бедный Александр! Как, должно быть, тяжелы твои муки, и физические, и душевные! Как много придется тебе еще услышать и выдержать!»