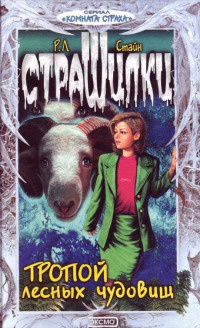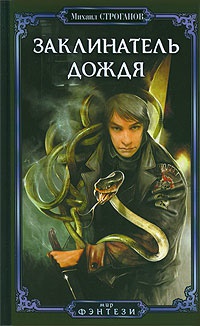Книга Взлет черного лебедя - Ли Кэрролл
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— После щелчка держи большой палец ровно, чтобы пламя не дрожало.
Я предприняла очередную попытку. Искра зажгла крошечный бело-голубой огонек. Зрелище собственной горящей кожи подействовало на меня так плохо, и я непроизвольно тряхнула рукой, чтобы погасить пламя.
Оберон застонал.
— Пылает твоя жизненная сила, — произнес он таким тоном, будто поучал маленького ребенка. — Ты не обожжешься. Давай еще раз.
Я пристально уставилась на руку, свела подушечки пальцев, дождалась искры, щелкнула, выпрямила большой палец… и над ним вспыхнул язычок и закачался, как гавайская танцовщица. Оберон был прав: огонь не наносил никакого вреда.
— Молодчина, — похвалил он меня.
Я улыбнулась.
— Потрясающе! Ничего более крутого я в своей жизни не делала. Жаль, что я не курю — можно было бы похвастаться.
Оберон покачал головой и начал спускаться вниз по ступеням. Я последовала за ним. Страх развеялся от радости обретения нового дара… но неожиданно мой спутник заставил меня задуматься.
— Не пытайся это делать во время месячных, — предупредил он. — Тогда женщины могут себя спалить.
Я шагала по лестнице и недоумевала — как он догадался, что у меня те самые дни, — а он продолжал давать советы.
— Держись рядом со мной и ни в коем случае не сворачивай в боковые проходы.
«Сколько же коридоров в подвале кондитерской на Манхэттене?» — гадала я. Но мы продолжали свой спуск по ступеням, и я поняла, что подпол не совсем обычный. Стены оказались отделаны блестящим розовым кварцем. Я поднесла большой палец поближе и увидела высеченные на камне знаки и пиктограммы. Тут были изображения красивых мужчин и женщин, скачущих верхом на лошадях по горам и лесам. Попадались и другие рисунки — люди водили хороводы около стоящих по кругу камней и огромных костров. Над ними летали крылатые существа — драконы, грифоны и… мантикоры. Некоторые драконы прятались в горных пещерах, в недрах которых морщинистые гномы добывали золото и всяческие минералы. Картины были украшены настоящими рубинами и сапфирами, они так и сверкали в свете моей «зажигалки». В колледже я изучала геммологию[42]и не сомневалась в том, что это — не подделка. Было даже страшно подумать о реальной стоимости камней.
В глаза бросились самые крупные из них — сапфир, изумруд, рубин и топаз. Каждый искусно выточили в форме глаза и поместили на изображениях четырех башен.
— Не отставай, — позвал меня Оберон. — Я не хочу оставлять Фэйн и Пака одних надолго.
Он обернулся, увидел, куда я смотрю, и поднялся ко мне.
— Сторожевые Башни? — просто спросила я.
— Да, — кивнул он. — Их построили для защиты человечества от темных сил. К ним приставили хранительниц — фей, посвятивших свою жизнь несению дозора.
— Что с ними случилось?
— Началась война. Башни разрушили… Одну хранительницу убили…
— А я считала, вы бессмертные.
— Мы не старимся, но нас можно уничтожить, а порой мы… уменьшаемся.
Последнее слово он произнес так сурово, что я не решилась попросить дальнейших объяснений. Вместо этого я поинтересовалась, что стало с тремя выжившими хранительницами.
— Одна бежала и спряталась, другая предпочла превратиться в человека — она была твоей предшественницей, Маргаритой.
— А последняя?
— Мы потеряли с ней связь, — буркнул Оберон и помчался вниз по ступеням. — Она перешла на другую сторону. Поэтому ее сослали в самые глубокие недра ада.
Как раз в то самое мгновение, когда мне начало казаться, что скоро мы действительно попадем в ад, мы очутились в круглом зале у подножия винтовой лестницы. Узкие коридоры симметрично тянулись в четыре стороны. Метки и опознавательные знаки отсутствовали, но Оберон без малейшей растерянности выбрал один из них. Он прикасался язычком своего пламени к факелам на стенах, те мгновенно загорались и осветили нам сводчатый туннель. Я попыталась определить, в каком направлении мы движемся, но мы слишком долго спускались по ступеням. Я совершенно утратила ориентацию в пространстве. Во всяком случае, было трудно представить, что мы по-прежнему находимся под улицами Манхэттена, а над нами продолжает жить своей жизнью Нью-Йорк. Там, в обычном мире, проезжают поезда метро, люди спешат на работу, едят свои ланчи, занимаются в спортзалах, выгуливают собак, укладывают спать заболевших детишек… Все это казалось иллюзией. Реальным стало другое — мощные черные стены, факелы… Я пригляделась к потолку. Он был выложен орнаментом из керамических плиток в виде рыбьих костей. Узор мне что-то напомнил.
— Эй! — окликнула я Оберона. — Свод похож на потолок в баре «Устрица» на вокзале «Гранд Централ», а еще — на купол собора Святого Иоанна Богослова.[43]
— Постройки выполнены одним и тем же архитектором — Рафаэлем Гуаставино,[44]— ответил Оберон, не оборачиваясь. — Его отправили вниз в девяностые годы девятнадцатого века. У нас случались протечки.
— Правда? Хотите сказать, что простому смертному лучше удалось то, с чем не справилась армия бессмертных фейри?
Оберон затормозил, и я едва не налетела на него. Его лицо исказилось болью, но когда он заговорил, голос моего провожатого зазвучал мягко и печально.
— В смертных нет ничего простого. Мы не умеем делать многое из того, на что способны вы. Когда-то наш народ был велик — среди нас встречались и те, кого почитали как богов. Но с течением столетий мы закоснели, измельчали. Пламя, которое в нас еще осталось, мы черпаем из общения с вами — от великих мыслителей и творцов. Вот что позволяет нам жить. Мы питаемся этим огнем.
— Звучит так, словно вы… паразиты.
Оберон вздохнул.
— Люди, к которым мы прикасаемся, расцветают. Самые лучшие свои произведения они создают в то время, пока мы пьем их сны. Отношения обоюдовыгодны.
— А когда вы покидаете людей?
Оберон помолчал. В свете факелов он вдруг показался мне древним стариком.
— Почему ты решила, что мы вообще бросаем тех, кого любим?
— Я выросла в доме, который днем и ночью был прямо-таки набит художниками. Я слышала рассказы о тех из них, которые лишились рассудка, — как Ван Гог, например. Я видела людей, которые пылали такой страстью, что почти светились… а потом они угасали. Рэй Джонсон[45]прыгнул с моста Сэг Харбор. Сан Леон умер от передозировки героина. Зак Риз уже двадцать лет ничего не рисует.