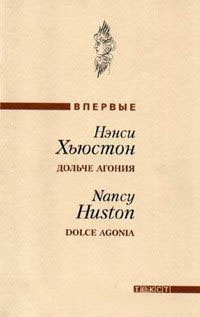Книга Крыши Тегерана - Махбод Сераджи
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ахмед, Ирадж и я садимся около могилы и произносим последнюю молитву за Доктора. Сейчас октябрь. Порыв холодного северного ветра заставляет меня вздрогнуть. Темно-серое небо только усиливает горестные чувства в этот самый тяжелый день в жизни каждого из нас.
Поздним вечером я тихо плачу в своей комнате и вдруг слышу стук в окно. На террасе стоят Ахмед и Ирадж. Я впускаю их. По их красным глазам можно догадаться, что не я один плакал. Ахмед зажигает две сигареты и протягивает мне одну. Ирадж говорит, что тоже хочет. Ахмед секунду колеблется. Я делаю ему знак, и он слушается. Ирадж курит так, словно всю жизнь был курильщиком.
Я велю им подождать, бегу вниз и достаю из холодильника отцовскую бутылку водки «Смирнофф». Я прихватываю три стопки и бутылку кока-колы. Я рад, что родители в отъезде. Они не одобрили бы всего, что мы делали сегодня. Я открываю бутылку и говорю Ираджу и Ахмеду, что до возвращения отца ее надо заменить на новую.
— Вы когда-нибудь это пробовали?
— Нет. — Они качают головами.
Впервые я выпил водки с отцом, когда мне было шестнадцать. Налив мне глоток, он сказал, что хочет, чтобы я впервые выпил именно с ним. Он поощрял меня никогда ничего от него не скрывать. Наверное, лучше будет рассказать ему все, вместо того чтобы заменять одну бутылку на другую.
— Мой дядя считает, что, пока не выпьешь первую рюмку водки, нельзя назваться мужчиной, — говорю я. — Есть ритуалы, которые необходимо уважать, — добавляю я, вспоминая, как об этом говорил отец. — Саги, человек, разливающий напитки, должен быть справедливым. Он должен наливать всем поровну.
Я осторожно наполняю рюмки, стараясь, чтобы во всех было одинаковое количество водки.
— Знаете, как надо это пить? — спрашиваю я у них.
Они снова качают головами.
— Поднимите рюмки.
Они поднимают.
— Теперь чокнитесь — вот так.
Ободок моей рюмки касается середины их рюмок.
— Чокаться и при этом стараться, чтобы ваш стакан был не выше стакана товарища, — это знак уважения.
Закончив лекцию, я выпиваю. Ирадж и Ахмед тоже пьют. Догадываюсь, что им, как и мне, становится не по себе, когда водка обжигает все на своем пути, начиная с языка. Каждый из нас отхлебывает кока-колы, а я вновь наполняю стопки с точностью бывалого саги.
— Чтобы почувствовать хороший кайф, надо выпить две или три подряд, — говорю я.
Мы выпиваем по второй и третьей рюмке, и я начинаю чувствовать кайф. Некоторое время мы сидим молча, потом Ахмед невнятно произносит:
— Предложение выпить сегодня — лучшая твоя идея.
Кивком я соглашаюсь с похвалой.
— Это лучшее средство избавиться от боли. — Его глаза наполняются слезами. — Я знаю, о чем ты думаешь. Но мы уже не на кладбище.
Ком у меня в горле все растет и растет.
— Сегодня ты смело поступил, — говорю я Ираджу, стараясь сдержать слезы.
Ахмед кивает. Я обнимаю Ираджа за плечи.
— Я правда люблю тебя. И буду любить тебя, как своего младшего брата, ладно? Отныне ты мой маленький брат.
Переполненный эмоциями и опьяневший Ирадж начинает рыдать.
— Я тоже! — выкрикивает Ахмед. — Больше никогда не стану тебя изводить.
— Твое появление сегодня было верным знаком того, что человеческий дух разрушить невозможно, что бы ни случалось в обыденной жизни, — говорю я. — Никто не в силах его разрушить. Ни шах, ни проклятая САВАК, ни ЦРУ, никто и ничто.
Я разражаюсь слезами.
— Я любил Доктора, — бормочет Ирадж. — И вас я люблю, ребята. Правда. Я не мог стоять в стороне и смотреть, как вы подвергаете себя опасности. Ни за что. И черт бы побрал этих подонков из САВАК, и их западных хозяев, и великого слугу Запада. Плевать мне на любого, кто хочет засадить меня в тюрьму за то, что я стою рядом с друзьями, чтобы оплакать смерть героя. Пошли они все куда подальше! Мне плевать, если придется провести за решеткой остаток жизни. Правда плевать. Сегодня я узнал, что дружба стоит того, чтобы идти на жертвы. Доктор доказал, что жизнь — небольшая цена, которой расплачиваются за свою веру.
Ирадж рукавами рубашки вытирает слезы. Потом продолжает:
— Я не совсем понимаю, что сейчас происходит у меня в душе, но знаю, что это нечто большое. Это «нечто» пытается вовлечь меня — понимаете, что я хочу сказать? Не знаю, что это такое, но это нечто. Вот как все происходит, верно? С твоей душой случается «нечто» — и все тут.
Пока он говорит, мы с Ахмедом смотрим на него.
— Я люблю его, как младшего брата, — снова плачу я, как маленький, совершенно опьянев от водки.
— Я тоже, — шепчет Ахмед, растроганно обнимая Ираджа.
Меня охватывает странное чувство, которое трудно описать. Должно быть, это то, что Ирадж называет «нечто».
РОЗОВЫЙ КУСТ
Никто никогда не узнает цену пули, убившей Доктора. Его родителям запрещено говорить на эту тему. На камне, лежащем на его могиле, разрешено написать только его имя. Родственники могут навещать могилу, сколько пожелают, однако прочие не одобряются. На Доктора не будет оформлено свидетельство о смерти, а все документы, имеющие отношение к его рождению, будут уничтожены. В этом мире Доктор никогда не существовал. В тюрьме у него отобрали книги и личные вещи, и их не вернут. Я помню, как моя бабушка говорила после смерти одного дальнего родственника, что земля холодеет. Полагаю, она имела в виду, что похороны любимого человека подготавливают родственников к переходу на следующий этап изъявления скорби. Вот почему ислам поощряет немедленное погребение покойного.
В Иране продвижение вперед происходит медленно. Мы целый год оплакиваем смерть родного человека. Мы собираемся вместе на третий, седьмой и сороковой день после его кончины. Подается чай, шербет и сладкое. Чтобы выразить соболезнование, приходят с цветами друзья, знакомые и родственники. Встречи повторяются в годовщину смерти. В течение года члены семьи носят траур и воздерживаются от посещения вечеринок, празднования Нового года и других торжеств.
САВАК сообщила родным Зари, что никому не разрешено носить траур по Доктору, а поминки запрещены, в особенности на сороковой день после его смерти, который случайно совпадает с днем рождения шаха.
Я ищу какую-то вещь в своей комнате и натыкаюсь на «Овода» — книгу, подаренную Доктором. Это история молодого пылкого революционера, убитого за свои убеждения. Я прочитываю ее меньше чем за два дня. Меня захватывает яркий литературный стиль девятнадцатого века, страстность и блеск жертвенной борьбы героя. В результате я начинаю лучше понимать Доктора. Мне жаль, что я не прочитал эту книгу, когда он был еще жив! Неужели он догадывался об ожидавшей его судьбе и поэтому просил меня прочитать «Овода»?