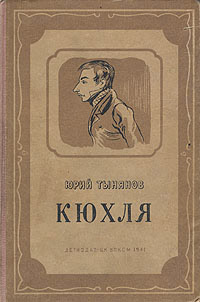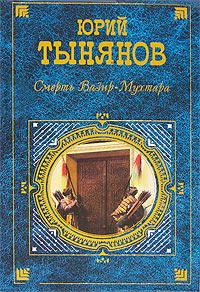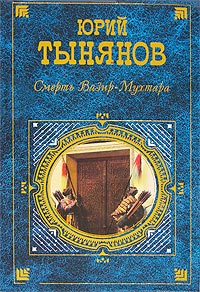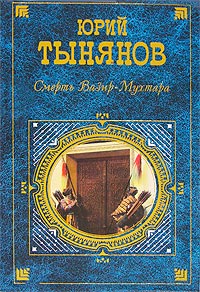Книга Пушкин. Кюхля - Юрий Тынянов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У Монфора были сильные связи, граф де Местр, философ и иезуит, проживавший в Петербурге, покровительствовал ему. Даже когда Татьянка, плача, призналась в преступной склонности к графу, дело замяли, главным образом по лени, а Татьянку сослали в Михайловское, на скотный двор. Сошло с рук и другое – француз угостил раз воспитанника своим бальзамом. Рот приятно жгло, голова у Александра кружилась, и с губ сами рвались небывалые слова, стихи и смех. Учитель и ученик, мертвецки пьяные, заснули глубоким и приятным сном.
Погубило Монфора другое: он вздумал сыграть в дурачки в передней с Никитой и был застигнут Надеждой Осиповной. Возмутительным было то, что он играл именно в передней и с холуем. Никакое графство не спасло его. Сергей Львович говорил, презрительно пожимая плечами:
– Сначала в дурачки, потом в хрюшки, потом в Никитишны, а там – и в носки! Не угодно ли?
Так он рисовал постепенное падение Монфора; старый игрок в веньтэнь говорил в нем.
Назавтра, увязав в баул свое имущество, француз простился с Александром, нарисовав ему на память борзую, а внизу написав по-французски: «Главное в жизни честь и только затем счастье» и проставив под этим изречением свой полный титул и фамилию.
Было и еще одно обстоятельство, погубившее Монфора. Николинька Трубецкой, воспитанник иезуитов, приехал к родителям в краткий отпуск и посетил соседей. Черный бархатный камзольчик с кружевными манжетками был на нем. Говорил он теперь ровным, как бы сонным голосом, ни на миг не повышая и не понижая его, и, слушая этот ровный, приличный говор, Сергей Львович вдруг огорчился: его сын говорил по-французски резко, обрывисто, кратко и, как показалось ему, грубо. Для обоих французский язык был как бы родным, но Николинька говорил как аббат, а Сашка как уличный забияка. Николинька, рассказывая о чем-то, назвал Поварскую, как француз, «Povarskaпa», a y Харитонья в переулке – «Au St. Chariton».[39]Прощаясь, он сказал приятелю по-латыни: vale.[40]Сашке было далеко до него. Монфор был посрамлен как воспитатель.
Новый воспитатель был не похож на Монфора. Звали его Руссло.
С усиками, широкими ноздрями, гордый, он был самого высокого мнения о себе, и Арина с самого начала его возненавидела.
– Тот мусье был простец, – говорила она со вздохом, – пошли ему Бог здоровья, теперь небось загулял, а этот – жеребец.
Надежда Осиповна и Сергей Львович зато были другого о нем мнения. Надежда Осиповна мало теперь выезжала. Раз сидела она в утреннем чепце и кофте, рука ее приоткрылась, и француз не мог или не хотел скрыть своего восхищения. Она улыбнулась: обожание льстило ей. С этих пор мусье Руссло стал в доме царьком, султаном, ходил петухом. С Александром он говорил кратко и отрывисто. Выдавая себя за старого рубаку, он задавал ему уроки, точно командуя. Раз он выследил походы Александра в отцовский кабинет и, наказав его, прекратил их. Они мало гуляли теперь. Руссло засадил его за французские вокабулы и арифметику. Руссло был автор, стихотворец, он с достоинством присутствовал при чтении Расина; Сергей Львович изредка еще позволял себе декламировать. Затем он сам читал свои стихотворения, которые всегда нравились Надежде Осиповне. Все без исключения они были посвящены гордой даме, прелести которой свели поэта с ума и которая недоступна. Одна элегия кончалась вздохом умирающего от любви поэта:
Ah, je meurs! je meurs![41]
Надежда Осиповна за обедом подкладывала ему куски пожирнее. Мусье Руссло заметно порозовел и округлился.
Раз черная каретка остановилась у пушкинских ворот. Человек в черном, с желтым старческим лицом, изжелта-седой, с молодыми глазами, выглянул из кареты. Старый слуга-француз в облезлой ливрее сошел с запяток и спросил, дома ли граф Монфор, которого желает видеть граф де Местр.
Сергей Львович засуетился. Граф де Местр был бессменный посланник короля сардинского, лишенного, впрочем, владений, по слухам – иезуит, лицо видное в Петербурге и загадочное, философ.
Сергей Львович пригласил зайти графа де Местра. Старик пробыл у него всего минут пять. Услышав, что Монфора давно уже нет, и увидев мусье Руссло, низко ему поклонившегося, старик посмотрел пронзительными живыми глазками на него. Сергей Львович обомлел: взгляд был умный, таким он и представлял себе иезуитский взгляд. Он стал бормотать о том, что граф Монфор, к сожалению, выехал, и о трудности в настоящее время дать детям воспитание. Постепенно Сергей Львович разговорился. Он очень любил графа Монфора и не переставал сожалеть о его слабостях, вполне извинительных, но нетерпимых в воспитателе. Законы требуют все больших познаний, и голова идет кругом, когда думаешь о воспитании детей.
Привычным, внимательным взглядом старик посмотрел на мальчика и, рассеянно улыбнувшись, снова воззрился на Руссло.
– Воспитывать должно не ум, – сказал он, глядя на Руссло, – Руссло приосанился, – это притом очень трудно; и не то, что слывет умом, – Руссло посмотрел в сторону, – не должно обременять дитя пустыми знаниями. Воспитывать должно совсем другое. Вы знаете плоды воспитания в Париже.
Потом он поежился от холода, натянул на худую шею черный платок и ушел, оставив всех в недоумении.
Вскоре каретка де Местра скрылась в Харитоньевском переулке.
Сергей Львович стал всем рассказывать о посещении графа де Местра. Не обращая внимания на Сашку, на Лельку и почти ничего не зная о существовании Ольки, он стал повторять, что воспитание в теперешнее время – дело претрудное и что иезуиты совершенно правы, когда утверждают, что главное – это не ум, а вкус. Бог с ними, с науками! Граф де Местр трижды прав.
Мнение это и в особенности сообщение о визите графа де Местра выслушивали со вниманием.
– В последний раз, когда граф де Местр был у меня… – говаривал Сергей Львович.
Неожиданно все в Москве переменилось; самый воздух, казалось, потеплел. Гордости у стариков как не бывало; всех стали приглашать, всем улыбаться, обновились старые связи, припомнилось родство. Сергей Львович вдруг вспомнил, что их дворянству шестьсот лет, а то и без малого тысяча, и опять развязал свой список грамот. И вскоре согрел его сердце давно им не виденный Карамзин.
Причина всему – государственная, Петербург.
Москва была на отшибе, доживала; старики громко ворчали, как ворчат на людях глухие, думающие, что их не слышат; как человек выходил в отставку, он норовил переехать в Москву, чтобы иметь возможность ворчать. Всем в Москве правили старухи. Москва была бабье царство. Жабами сидели они в креслах в Благородном собрании и грозно поглядывали вокруг. У каждой был свой двор и свои враги; они все помнили, всех знали. Суждения Офросимовой и анекдоты о Хитровой заменяли Москве ведомости, которые читали только во время войн. Всю зиму была здесь ярмарка невест. Усадив их в возки и бережно подоткнув со всех сторон, везли этот редкостный товар осенью по широким дорогам в Москву, и у застав возки останавливались. Золотились главы церквей, зеленели сады, и у невест екали сердца. Потом их показывали московским старухам, и те, оглядев, брали их под свое покровительство. Вскоре на каком-нибудь балу девичья судьба решалась. Старухи судили, рядили, разводили и вновь сводили. Все рабы Гименея, мужья под пантуфлею, разорившиеся игроки, люди, у которых почему-либо не открылась карьера, составляли средний возраст Москвы. Сергей Львович прекрасно себя чувствовал в Москве и бранил Петербург. Ворчать и переносить новости было его страстью, страстью среднего возраста и состояния Москвы.