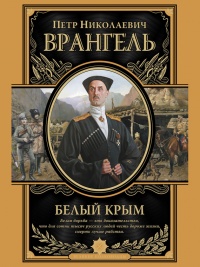Книга Из Египта. Мемуары - Андре Асиман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я уже никогда не увижу маму, – запричитал он, покачиваясь, как пьяный, и уронил лицо в ладони. – Как я могу уехать, даже не попрощавшись, как я могу так с ней поступить, как?
Я заметил, что у него кровит губа, и крикнул:
– Кровь!
– Пустяки, – ответил Вили, вытер губу ладонью и снова разрыдался. Шофер оставил чемоданчик этажом ниже и поднялся, чтобы помочь Вили.
– Нет, оставьте меня на минутку.
Бабушка велела мне принести стаканчик виски.
– Попроси Эльзу, она поймет.
Я попросил Хишама, и он мгновенно налил мне виски. С большим стаканом я направился обратно по коридору, и никто ни о чем меня не спросил. Я вошел в кладовую и остановился. Там никого не было. Я спрятался за колонну, плюнул в стакан и пальцем размешал плевок.
– Собачья жизнь, – произнес Вили, выпив содержимое стакана. – Столько лет, а теперь еще и это. Adi s, – добавил он.
Мы с его старшей сестрой махали ему вслед, пока очертания его серой шляпы и руки не скрылись в полумраке за тусклыми концентрическими поворотами винтообразных перил.
– Только никому ни слова, – предупредила бабушка.
Мы закрыли за собой дверь кухни, миновали кладовую и вдруг снова очутились в толпе гостей.
– Где это вы пропадали? – спросил мой отец.
– Не спрашивай, – отмахнулась бабка и, заметив его недоумение, пояснила: – Вили уехал.
– Так рано? – удивился отец.
– Он уехал навсегда. Понимаешь?
Единственной, кто еще два дня оставался в неведении, была моя прабабка. Ей что-то наврали, чтобы не портить праздник. В конце концов сочинили, будто бы Вили в Каире. Дескать, его пожелал видеть сам король. Старушке так и не сообщили, что король уже несколько лет как умер.
Но прабабка все равно почуяла неладное.
– Он ведь не умер?
– Кто? Вили? Он несокрушим, как Бисмарк. Не то что некоторые.
«Некоторым» был мой дед.
– Он-то как раз хотел умереть, – вставил доктор Алькабес, наш родственник и семейный гомеопат. – Я ему говорил, что можно его спасти, – добавил он за третьим и последним юбилейным обедом. – А он как услышал о курсе лечения, отказался наотрез. Еще и поговорку турецкую процитировал: «Прикрой меня, дай умереть спокойно». Я ему говорю: Альберт, ты же понимаешь, чем это кончится! И знаете, что он ответил? «Все лучше, чем позволить тебе разрезать и выпотрошить меня, точно перец для фаршировки, вырезать подчистую все мои любимые органы. Нет уж, благодарю покорно».
* * *
– Бедняга, – сказал мой дед моей матери. Прошло несколько недель, настал Йом Кипур. Мы как раз возложили цветы к надгробию его матери и пробирались по узкому проходу к могиле другого моего деда. Святая с нами не пошла – наверное, чтобы не наткнуться на Принцессу, которую так и не простила.
Мне уже доводилось бывать с отцом на кладбище, дорогу к могиле деда я помнил хорошо и брел впереди, стараясь не споткнуться о какую-нибудь низкую плиту. Когда мы подошли к могиле, я заметил, что нас дожидается отец.
Он был один. Принцесса тоже не пришла.
– Бедняга, – подумав, повторил дед. – Мы не очень-то ладили, хотя, видит Бог, я никогда не держал на него зла. Но… – добавил он, имея в виду, что сделанного не воротишь. – Можно я скажу несколько слов? – спросил он у зятя, не желая показаться навязчивым в том, что касалось религиозных вопросов.
– Пожалуйста, – со сдержанной иронией ответил мой отец: мол, если уж вам так приспичило…
Дед прочел молитву – медленно, негромко, даже робко, стыдливо и как бы извиняясь, чего обычно от верующего не ждешь. Он напомнил мне мать, которая, как бы ни злилась, ни ругалась, ни орала, потеряв терпение, всегда была кроткой, неуверенной и добросердечной.
Договорив, дед посмотрел на дочь, она тоже произнесла два-три слова на иврите и сказала: «Аминь».
– Voil, monsieur Albert[62], – произнес дед, глядя на могильную плиту. Потом застенчиво, как человек, в присутствии зятя всегда испытывавший неловкость, хлопнул моего отца по плечу со сдержанным сочувствием, боясь хватить через край и показаться навязчивым. – Прими мои соболезнования, – произнес он. – Никто из нас не собирается задерживаться в Египте. Признаться, больно думать, что придется оставить здесь тех, кого мы любили – мне мать, тебе отца. Они предпочли бы упокоиться там, где родились, вместе с близкими. Твой отец как-то спросил меня: «Зачем я вообще приехал в Египет, если все вот-вот разъедутся и бросят меня, и я останусь один-одинешенек лежать в могиле, последний еврей на этом обгорелом, непропеченном, пыльном клочке земли, по которому топчутся грязные ноги?» Он ненавидел Египет – и в Египте же погребен. «Что может быть хуже, мосье Жак, чем быть похороненным на кладбище, где вообще нет знакомых?» – спрашивал он. И вот что я вам скажу: хуже смерти – лишь мысль, что никто никогда не придет к тебе на могилу, никто не омоет буквы твоего имени. Нас будут помнить несколько месяцев, может, лет, поминать в годовщину смерти, а лет через двадцать – двадцать пять забудут совершенно. Земля превратит нас в прах, и чем мы тогда лучше нерожденных – словно и не рождались вовсе, проживи мы хоть сотню лет.
Отец ничего не ответил, хоть и уловил намек на прабабкин юбилей.
По пути к воротам кладбища наша четверка здоровалась с другими еврейскими семействами, пришедшими помолиться о своих усопших. Дед собирался в синагогу и предложил нам присоединиться.
– Не сегодня, – отказался отец.
– Я пойду с тобой, – сказала мать.
Ее согласие обрадовало деда, которому в противном случае пришлось бы идти одному.
Стояло типичное александрийское осеннее утро. Можно было даже сходить на пляж. Отец предложил прогуляться по городу; было еще слишком рано, чтобы заглянуть куда-нибудь в кафе на чашку кофе.
А потом его, видимо, осенило.
– Идем, – велел он. Мы, прибавляя шаг, направились по бульвару прочь, несколько раз свернули и в конце концов очутились у антикварной лавки на рю Шариф. Отец заглянул внутрь, замялся, но потом все же толкнул большую стеклянную дверь. Зазвенели колокольчики, и мы вошли в магазин, битком набитый вещами точь-в-точь из прабабкиной квартиры. Две продавщицы раскладывали в витрине бархатные подушечки с монетами.
– Я могу вам помочь? – спросила одна из женщин.
– Даже не знаю, – растерялся отец.
Женщина, которой на вид было не больше тридцати, смутилась. Отец занервничал.
– Если честно, – начал он, уставившись в окно, – я пришел, потому что вы были знакомы с моим отцом, и я знаю, что он рассказывал вам о моем сыне, вот и решил, вдруг вы захотите увидеть моего сына.
– Я была знакома с вашим отцом? Не думаю, – женщина вскинула брови, голос ее надменно зазвенел. Но не успел я опомниться, как она вдруг покраснела, и взгляд ее затуманили слезы. – Ну конечно, – продавщица наконец положила черную подушечку, которую держала с тех пор, как мы вошли в лавку. – Ну конечно, – повторила она, осела на антикварный стул и бессильно опустила руки на колени. – Так это ваш мальчик. Дайте-ка я на него взгляну, – она подалась ко мне. – До чего похож на него! – И, повернувшись к отцу, добавила: – Рада с вами познакомиться. Вы даже не представляете, как я счастлива, что вы к нам зашли.