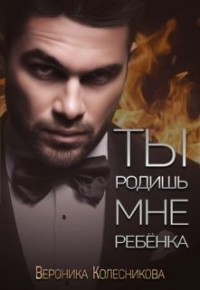Книга Энигма-вариации - Андре Асиман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
я жду увидеть, когда мой член войдет в твое тело — медленно, поначалу совсем медленно, а потом, погрузившись до упора, я захочу тебе сказать, что это лучшее, чего можно ждать от жизни, и ты кивнешь снова, и прикусишь губу, которую мне сейчас тоже хочется прикусить сильнее всего на свете, потому что ты в конце концов потянешься ко мне и прильнешь поцелуем, а твой язык проникнет в глубины моего рта. Что меня огорчает — это невозможность увидеть твое лицо в момент оргазма, обнять твои колени и приласкать твои скулы много, много раз или даже ощутить эту нотку разочарования после секса, которую необходимо тут же избыть новым сексом.
Однажды утром я пришел на корт раньше обычного. С недавних пор я повадился входить в парк с Девяносто третьей улицы, а не с Девяностой. Мы вошли одновременно. Я не видел тебя много недель. Очевидно, в такой ситуации вполне уместно обменяться какими-то словами. Ты не посмотрел на меня, и, предоставив сначала тебе возможность заговорить, я решил потом просто поглядывать на тебя снова и снова. Дело было необычное. И вот я несколько раз взглянул на тебя мельком, возможно, в попытке тебя поприветствовать, если ты хотя бы посмотришь в мою сторону, вот только ты смотрел перед собой, просчитывая шаги, просчитывая мысли, новый день. Лучше не мешать, не вторгаться, ведь ты явно посылаешь сигнал: отвяжись.
Через час, в раздевалке, увидев у тебя на правом бедре широкий бинт, я решил не упускать возможности. «Что с вами случилось?» — спросил я, пытаясь, чтобы это прозвучало в духе дружеского: «И в какую это идиотскую передрягу тебя занесло?» — «А, попытался несколько недель назад открыть бутылку вина, а она разбилась». — «Швы накладывали?» — «Кучу». Ты улыбнулся. А потом, заметив, что я не отвожу глаз: «Вы — третий, кто вообще заметил».
— Поди не заметь. И с этим можно играть в теннис?
— Теннис-то пустяки. А вот душ принимать сложно. Мы рассмеялись.
— Я придумал систему. — С этими словами ты достал из своей объемистой сумки кусок пищевой пленки и несколько крепких круглых резинок. Тут мы оба опять рассмеялись.
— Уже на самом деле проходит. Но спасибо, что спросили.
«Спасибо, что спросили». Вот оно. Ни к чему не обязывающая вежливость, на грани сухой отповеди. Повелитель клише. Меня это не удивило.
Через несколько дней, открыв сумку, я громко чертыхнулся.
— Представляете? — спросил я, поворачиваясь к тебе. — Забыл дома кроссовки.
— А вы их разве здесь не оставляете? — спросил ты.
— Обычно оставляю, но в воскресенье забрал, поиграть в теннис на Риверсайд-драйв.
Я посмотрел на часы — будто могу сбегать домой и успеть на корт ко времени. Ты прочитал мои мысли.
— Даже если сгонять домой, свое время вы все равно пропустите. Советую посидеть на скамейке, съесть протеиновый батончик и выпить свежесваренного кофейку.
— Вы про этот вязкий мазут, который подают с кислым молоком или без?
— Ну, не такой уж он ужасный, — возразил ты.
И тут я внезапно понял, что мои придирки к здешнему кофе были совершенно надуманными, я их всячески преувеличивал, чтобы привлечь твое внимание, — такими же преувеличениями служит все, что я здесь говорю. Но ты не клюнул. Ты не падок на гиперболы, иронию или язвительный юмор. Ты все говоришь так, как есть.
Вот я и последовал твоему совету, купил протеиновый батончик, заказал чашку кофе и уселся на балконе смотреть на твою игру. Мне очень нравилось, как перед самым ударом ты далеко заносил назад правую руку и вытягивал вперед левую, чтобы точно послать мяч в цель. Во всем, что ты делаешь, чувствуются грация, мастерство, расчет. Никакой надуманности, преувеличений, только дело. Я тебе завидовал.
Следя за тобой, я подметил, что бинт ты сменил на более тонкий. Мне хотелось высказаться по этому поводу, я вознамерился дождаться тебя, мы ведь наконец-то вступили в разговор.
Вот только зачем обманывать себя? Ни в какой разговор мы не вступили. Про мои кроссовки ты думаешь не больше, чем я про свой протеиновый батончик.
Кончилось дело тем, что я доел батончик, глотнул еще кофе, вылил остальное в сточную канавку, еще последил за твоей игрой, а потом, приняв душ и побрившись, ушел.
В то утро я не пошел прямо на работу. Купил еще чашку кофе, поднялся по ступеням в парк Хай-Лайн, нашел тихое пустынное местечко и долго сидел, неподвижно глядя на воду, на почти безлюдные дорожки, на деревья, кусты и травы — в тот день они казались особенно зелеными. Я нянчился со своим горем, пытался припомнить твой голос или просто твои слова — на случай, если голос не зазвучит. Но не приходило ничего. Хотелось о тебе думать. Но и тут ничего не шелохнулось, кроме какого-то чувства, одновременно и грустного, и довольно приятного. Я ведь влюблен, да? Вроде бы да. На бумажной салфетке, которую я стащил, купив кофе в теннисном павильоне, я начал писать: «Я ничего о тебе не знаю. Не знаю твоего полного имени, адреса, рода занятий. Но каждое утро я вижу тебя обнаженным. Вижу твой член, яички, ягодицы — все». Понятия не имею, зачем я написал эти слова. Но это был первый случай, когда я зачерпнул из своей груди нечто, связанное с тобой, и выпустил в мир в обличий слов. Останавливаться не хотелось, потому что теперь это выглядело как разговор с тобой и даже лучше разговора с тобой, ведь не нужно было остерегаться, слова приносили утешение, при том что, совершенно очевидно, утешаться было нечем, уж всяко не собственными словами. Я сложил салфетку и сунул в бумажник. Понял, что никогда ее не выброшу.
А когда я уже собирался встать, чтобы идти на работу, я почувствовал в груди нечто похожее на боль. Боль эта мне понравилась. Я еще раз пожалел, что папы уже нет. Он единственный смог бы разобраться в подоплеках того, что я чувствую, в этом переплетении язвящего и заживляющего, подобного двум сплетенным в схватке змеям. Это любовь, определил бы он, робость — это любовь, страх — по сути любовь, даже твое раздражение — любовь. Каждый из нас приходит к любви своей кривой дорожкой. Кто-то замечает сразу, другой тянет долгие годы, а некоторые осознают лишь задним числом.
Разглядывая вокзал на железной дороге Эри Лакаванна на другом берегу Гудзона, я вспомнил, как папа стоял на причале и махал вслед нашему парому, отходившему от острова. Какой же у него грустный вид, думал я. Мне было невдомек, что его ждало последнее лето любви. Впрочем, зная его так, как знаю теперь, я уверен, что он понимал и даже предвидел, что иной любви ему уже испытать не дано, вот почему ту он лелеял до самого конца.
Третья неделя с того нашего разговора.
Здороваемся. Еще две-три недели я буду здороваться первым. Потом здороваться будешь ты. Но по дороге на корт — ни единого взгляда. Ты просчитал, что мне положено одно, а не два приветствия в день, и наша скудная квота держит нас на том же расстоянии, на котором мы были чужими. Несколько слов — и вновь подступает холодок, будто стекло затягивает инеем. Я почти сразу возвращаюсь к укромным взглядам, которые длятся долю секунды или даже не успевают упасть на тебя, — их и подглядываниями-то не назовешь.