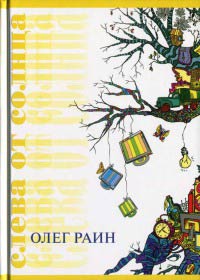Книга Альпийский синдром - Михаил Полюга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Жена давно хотела полюбоваться вашими красотами, – пояснил я, сообразив, что тот мучительно думает, как обращаться к женщине, которую я привез: мало ли кого сюда втихомолку возят на рандеву…
– О! Наши красоты – это, скажу вам, что-то невероятное! – воскликнул Черных и вдруг, изловчившись, поцеловал Даше руку. – Наши красоты, наши красоты… Все покажем, все увидите… Оксана Васильевна! – позвал он, и от группы людей, возившихся на клумбе, отделилась и подошла к нам женщина с простым грубоватым лицом и вымазанными в земле руками навскидку. – Оксана Васильевна, познакомьтесь: наш прокурор, Евгений Николаевич. А это его супруга… Как вы сказали? Дарья Михайловна? Очень приятно, Дарья Михайловна! Оксана Васильевна вымоет руки и все вам покажет, она у нас не только педагог со стажем, но по совместительству еще и экскурсовод. А я, с вашего разрешения, займусь одним неотложным делом и через полчаса к вам присоединюсь.
Черных еще раз попытался поймать Дашину руку, но та, предвосхитив попытку, спрятала руку за спину и с преувеличенным вниманием принялась разглядывать горельеф фронтона – музу с лавровым венком в руке, зачем-то взобравшуюся на круп лошади.
– Это центральный фронтон, – подала голос наблюдательная Оксана Васильевна, все так же удерживая на весу грязные руки. – Есть еще парковый – по ту сторону здания. Изображает торжество дочери Зевса над земными страстями.
– Что изображает? – переспросил я с видом наивным и простоватым – и Черных тотчас раскланялся и заковылял к дому, а Даша ухватила мой локоть и, за спиной у Оксаны Васильевны, смешливо двинула меня в бок.
Затем экскурсия началась.
Уже в первые минуты, несмотря на начало августа, мне стало казаться, что угодил в пору глубокого увядания и тлена – осень всего сущего в этом забытом Богом уголке.
Первым делом бросилось в глаза, что дом оштукатурен кое-как, грубо и неумело, – не графский дворец, а глинобитная селянская хатка. Рыжевато-желтая краска, нанесенная поверх штукатурки, ко второму этажу вылиняла, приобрела бледно-лимонный оттенок. При этом от фундамента и до карниза крыши видны были размашистые мазки и разводы.
– Все сами… Силами студентов и преподавателей… – высмотрев следы недоумения на моем лице, вздохнула Оксана Васильевна. – Вот если бы нам статус памятника культуры … А так числимся по другому ведомству: какой-то агротехнический колледж… Пойдемте лучше в парк…
Минуя один из двух боковых флигелей, где при графах была кухня, мы обогнули здание, прошли вдоль ризалита с шестиколонным портиком – здесь штукатурка местами потрескалась и просела, а давно некрашеные колонны казались серыми и унылыми, – и направились в парк.
В тени парковых деревьев было сумеречно, прохладно, тихо и не менее заброшенно, чем возле дворца. По левую сторону от тропинки, которой шли, показался ров, заросший по скатам травой; через ров был перекинут арочный мостик, сложенный из подернутого мхом серого камня. По правую сторону, в некотором отдалении, стояла унылая церквушка с похилившимся от времени куполом и заколоченными досками арочными окнами.
– Семейная церковь Ганских – Ржевуских, – повела рукой вправо Оксана Васильевна. – Под ней – усыпальница, в революцию была разграблена. Все было разграблено. Устроили спортзал: в часовне – баскетбол, в усыпальнице – останки… Теперь пытаемся восстановить: купол там починить, перекрыть крышу, расчистить вход в усыпальницу. Денег нет, но Владимир Игнатьевич хлопочет…
– Замечательно! – восхитился я, и Даша снова саданула меня локтем. – Я к тому, что идущий обрящет…
– Ищущий, – поправила меня Даша. – Ищущий да обрящет.
Ступили на арочный мостик: угрюмые камни, седой мох, пыль веков – все впечатлило, навеяло на романтический лад. Особенно когда Оксана Васильевна поведала, что при Вацлаве Ганском ров был заполнен водой и по нему плавали экзотические черные лебеди, привезенные из далеких краев.
Даша стала у перил, прикрыла глаза, задышала часто и глубоко. И мне, каюсь, нечто этакое привиделось…
За мостиком тропинка повернула влево и побежала вдоль высохшего рва. Деревья по сторонам были огромны, не деревья – исполины, но многие подточены временем и старостью; особо дряхлые сбрасывали сухие ветки, а умершие зияли жуткими дуплами, шелушились облезлыми стволами, качали в вышине безлистыми хрупкими ветками. Но и здесь жизнь продолжалась: в кустах, сиреневых и жасминных, копошились и пели птицы, высовывались из травы какие-то желтые, фиолетовые, розовые цветы, а на дикой яблоньке, самочинно пробравшейся в заветный парк, наливались кислые бело-розовые плоды.
– А вот пробковое дерево, – сказала Оксана Васильевна, указывая на стройный ствол с ободранной с одной стороны корой. – Полюбуйтесь, вчера были посетители. С виду приличные люди… Каждый раз просим: если так уж хочется – отломите кусочек пробки на память… А они вот как…
Подошли ближе: у корней несчастного дерева валялся огромный пласт содранной коры. Нагнувшись, я отщипнул кусочек – кора была легкой, почти невесомой и на удивление теплой, как будто оставалась живым деревом, а не умершей его частью.
– А эти цветы занесены в Красную книгу, – указала на невзрачный стебелек с крохотными бордовыми соцветиями Оксана Васильевна. – Так уж и быть, один можете подарить жене. Только он нестойкий, сразу вянет. А вот если в гербарий, как память…
Тут кто-то окликнул ее с противоположной стороны рва, из-за мостка, сваренного из металлических листов-пластин, и она с улыбкой заторопилась:
– Мне дальше не надо. Дальше пойдете вот по этой тропинке и метров через пятьдесят увидите… Там Аллея любви… Ну, где Бальзак встречался с Эвелиной… Потом они возвращались по этому мостику – он был деревянный и не гремел железом, как гремит нынешний. Мы его называем Мостиком поцелуев – они как бы целовались на нем… Или Мостиком вздохов, если она почему-то прийти не могла… Идите, туда надо вдвоем… А я сбегаю домой, за ключами от музея…
Она пошла, и когда ступила на мостик, тот на самом деле загремел, да так, что я невольно улыбнулся: какие при таком грохоте поцелуи!..
Затем сорвал заповедный цветок и с шутовским поклоном подал Даше.
– Не пахнет. Он совсем не пахнет! – поднеся стебелек с соцветиями к лицу, засмеялась она – как заливается переливчатым, дробящимся смехом счастливый ребенок. – Но такой нежный, бархатный! Вот и у меня, вот и у меня аленький…
Тут в груди у меня стало тепло и горестно, и сразу расхотелось шутить. Как ей удается, и как всегда удавалось простые обыденные вещи превращать в то, что не выговорить словами, – в чувство? Аленький цветочек… Вот и у нее – аленький… От меня…
А потом была Аллея любви – обыкновенная тропинка в обыкновенном не то парке, не то диком лесу. Но уже что-то переменилось, и Даша шла, едва слышно ступая и низко опустив голову, и в этой ее походке, и в хрупкой, как бы надломившейся шее мне внезапно открылось, что безмерно люблю – и ее походку, и склоненную голову, и детскую шею с трогательно выступавшими позвонками, и всю ее, Дашу, Дашеньку. Остановившись, я секунду-другую смотрел жене вслед, пока не замедлила шаг и не повернула ко мне любимое вопрошающее лицо. Но я уже не различал черт ее лица – только глаза, только глаза…