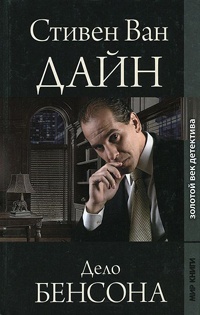Книга Скверное дело - Селим Ялкут
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Академия Наук, разные центры по планированию… Хотите, историю чуть-чуть преподам?
— Хочу. — Попросил Валабуев.
— Вы про гору Шипку слыхали? Про то, сколько там наших, русских солдатиков полегло. На картины художника Верещагина поглядите, сколько лет прошло, а сердце болит. И ведь, в конечном итоге генерал Скобелев на пороге Стамбула стоял, один переход, и он там. И проливы были бы наши. А болгары? Так они в двух мировых войнах и без турок против нас воевали. Но из-под Стамбула мы тогда повернули. Англичан опасались. Повторения Крымской войны. Можно подумать, добрее они к нам от этого стали.
— Очень интересно. Еще, конечно, хочется поговорить. Но к чему вы так развоевались?
— Я — человек мирный. Вы историей на досуге интересуетесь, а я показываю, как она при случае может повернуть.
— Были бы силы…
— Само собой. Но понимать нужно, откуда что берется. Карты на столе, играть с плохой нужно уметь, и получше, чем с хорошей. А иначе последнее пустим по миру.
— Далеко это от меня. — Вздохнул Балабуев. — Хоть завидую. А у меня с вашим новым сотрудником конфликт вышел. Ну, и законник. Будете профсоюз организовывать, готовая кандидатура. Станет вам нервы портить. Молоко за вредность потребует. Очень не советую.
— Какое молоко? (что ни говори, умел Балабуев сбивать человека с толка).
— Вот и я говорю. Какое?..
— Обращусь в Министерство. Как это они без меня.
— И правильно сделаете. Они, наверно, думали, вы надолго отправились. А этот конфликтный. Спорит, задирается. Но это ваша забота. А как вот… с Габриелем Антоняном. Был у вас такой. Что можете сказать?
— Павла Николаевича аспирант.
— Что вы все на Павла Николаевича. Где он теперь витает, нас там нет. И я вам прямо скажу, плохо работаете с кадрами, Алексей Григорьевич. Этот же Антонян…
— Ошибаетесь. — Плахов тоже взял официальный тон. — В штате он не состоял. Павел Николаевич держал при себе, как заочного аспиранта.
— И чем же этот аспирант занимался?
— Я говорю, его Павел Николаевич опекал.
— Странно как-то, разгуливает человек во вверенном вам заведении, а вы не знаете. Где живет? Чем дышит. Курит этот Антонян?
— Послушайте. Мне своих дел хватает. Хотя его помню. Попадался на глаза.
— А где он теперь? Как его найти? Вы, как хотите, Алексей Григорьевич, в рапорте об итогах следствия это будет отражено. Что вы слабо справляетесь с руководством. Не владеете ситуацией. А это не проходит незамеченным и используется преступником.
— Где вы преступника видели?
— Даже слепой заметит. Потому и назначают без вашего ведома какого-то Картошкина. А тот бросается на людей в погонах, обращаю ваше внимание.
— Причем тут я?
— Препятствует работе следствия. Настраивает коллектив. Вот такой защитник. А что делать, если директор…
— Ну, знаете.
— Вы — директор. — Сказал Валабуев, внезапно понизив голос и придав разговору конспирологическую интонацию. — Значит, отвечаете…
— Да, отвечаю. — Сказал Плахов упрямо. — Но вины своей не нахожу.
— Дело ваше. — Неожиданно сдался Валабуев. — Нужно, Алексей Григорьевич, нам сесть и обо всем поговорить. Вы денек, другой осмотритесь, а потом я вас к себе приглашу. Я готов отступить, и вечная память, честно скажу, а начальство не позволяет. Значит, будем дальше копать. Вы — свое, мы — свое. Чтобы восстановить справедливость. Но один сюрприз я приготовил. Для вас старался, хоть с вами одни споры да огорчения.
— Какой еще сюрприз?
— Намекну, с французом связан.
— С Кудумом? — Оживился Плахов. — Раскрыли?
— А вы как думали. Мы хоть не ученые, но хлеб не зря едим. Придете послезавтра или в пятницу? Нет послезавтра. И удивлю. Только, Алексей Григорьевич, откровенность взаимная. Видите, у меня от вас секретов нет.
… Но назначенной встречи Плахов дожидаться не стал. В тот же день Картошкин рассказал. Про несчастного Кудума, про то, как он вызвался помочь Балабуеву со статьей, использовал былую репортерскую профессию. — Я так думаю, для музея только польза. — Объяснял Картошкин. — А то ведь, сначала Кульбитин, потом этот… И все на нас...
Плахов согласился, бесхитростное нас его подкупило. Картошкин окончательно вписался в коллектив. И работы накопилось. Плахов поручил Картошкину под присмотром женщин разбирать дела Кульбитина. А их осталось немало. Как всякий здоровый человек, Павел Николаевич откладывал многие решения, полагая, что времени хватит. Кто же мог предполагать…
Почти теми же словами, что Плахов с Картошкиным, оценивал ситуацию Балабуев. — Что же это такое, — разговаривал он сам с собой по привычке, свойственной вдумчивым людям. — Не успеваем со своими разбираться, являются со стороны. Что им Кульбитин выдал такое, о чем знать нельзя?
Ясно, своими Балабуев именовал очерченный круг подозреваемых. Казалось бы, все в сборе. Остается, как в детской считалке с выбыванием найти виновного. А вместо этого являются все новые… и каждому нужно уделить внимание. Удержать в голове. Пригласить. Выманить. Поговорить по душам. Притом, что народ пошел капризный, с гонором. Скользкий. Вот они — новенькие. Балабуев прихлопнул ладонью разбухшую папку. Чем только не приходится заниматься. Балабуев листал тезисы конференции, пытаясь сосредоточиться.
«О судьбе древних византийских рукописей.» — Спрашивается, что здесь такого, чтобы голову из-за них… — В архивах продолжают находить новые свидетельства. Вот запись некоего Феофана, который предсказал гибель Византии в случае отпадения от православия. И дальше. — Балабуев продолжал скороговоркой, водил пальцем по странице, чтобы ничего не пропустить.
Новые поступления в музей. Рукопись (копия, подлинник утрачен) выполнена в России переписчиком, бежавшим из Византии, претерпевшим там гонения за веру.
— Какую еще веру? — Размышлял Балабуев, и сам же подсказывал. — Православную. А кто против? Царя сбросили. Помазанника. Чего спрашивается? Не тем помазали? Сами окропили, елеем или чем там еще и скинули… Совершенная чепуха.
Балабуев был стихийный психоаналитик. И полагал (жизнь подсказала), если отпустить мысль, как отпускает задремавший кучер вожжи, дать развиться свободно, не подправлять и не поддергивать, благодарная мысль, как лошадь, сама вывезет в нужное место и остановит прямо перед вывеской с заветным именем. Кто? Плахов? Берестовы? Англичанка?..
Балабуев встряхнулся. Нет, не сработало. Значит, преждевременно. Нужно Картошкина вызвать, пусть прояснит. А Шварцу сказать, чтобы строже с ним. На голову взобрался и сидит.
Картошкин — вот, кто выигрывал в этом безнадежно запутанном деле, стал проявлять инициативу. Гипотезы и догадки буквально сыпались. Балабуеву был знаком этот бескорыстный азарт, способствовать работе следствия, помочь разоблачению преступника. Сам Балабуев был проще, пока не включал воображение. Но и тогда, включал расчетливо и трезво. Впрочем, нам об этом известно.