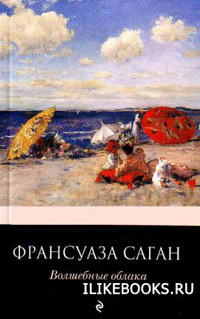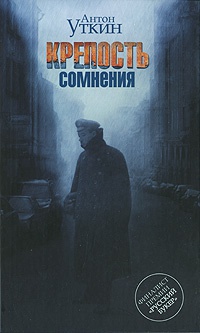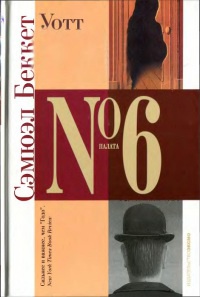Книга Ключ к полям - Ульяна Гамаюн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В шутовском хороводе, в гуще откровенно филистерских рож с перламутровыми деснами мелькали иногда очень интересные персонажи. Так, одно время часто захаживал к нам начинающий режиссер, одержимый идеей экранизировать Набокова, неважно что, скрупулезно, буква за буквой, метафору за метафорой перетащив каждый завиток с расписных окон поразительной прозы на расписные окна кинопленки. Он мог часами истязать публику отдельными пассажами и целыми главами из «Дара», которые знал наизусть, и под конец, расплывшись в мечтательной улыбке, добавить: «А теперь представьте, как все это будет выглядеть на большом экране!» Жаль, что и мейнстрим, и артхаус, не сговариваясь, считали его поиски абсолюта «неформатом». Бывали у нас и начинающие поэты: молодой человек с цветущими, как сады по весне, щеками, творящий под псевдонимом Теодор В. Адорно, только за этот псевдоним и привечаемый; рыхловатая, мучной белизны девушка лет двадцати, которая флегматично грызла зефир и с похоронной миной декламировала свои свадебные вирши; слоеная дама с тощим лицом и монументальным крупом – женщина резвого ума и сонного сердца, в толще вязаных одежек затаившая презрение ко всему живому, с сонными, всхрапывающими на поворотах стихами; бледно-зеленый и измученный онанизмом «юноша» двадцати семи лет, вечный студент и потенциальный убийца. Были и еще какие-то стремительные домкраты, имена и лица которых запоминались не лучше, чем их чахлые экзерсисы. В этом стылом цветнике горячим пятном выделялся Илья – математик по образованию, плиточник-облицовщик по профессии. Его краткие и трепетные, с отзвуком хокку лирические пантомимы –
– в рекордный срок отвергло рекордное количество издательств.
Проза в нашей синьориальной обители была представлена не менее ярко. Являлся одно время костлявый учитель биологии лет сорока, мечтавший написать детектив без единого диалога (сам он тоже все больше помалкивал, взращивая в себе, как он однажды выразился, «вербальный аскетизм»). Бывала очень серьезная, очень худая девушка с длинными щелкающими сережками, которая писала намеренно упрощенную прозу, с древними, как палка-копалка, оборотами вроде «красный как мак», «холодный как лед», «жгучий как жгут» (вклад Бипа) и так далее, в том же духе, все шестьсот страниц убористого (как убор) текста. Когда очередной защемленный жерновами литературы зоил обрушивался на писательницу, требуя объяснений, оправданий, сатисфакции, в конце концов, Бип одергивал его словами: «Дурак! Это же наскальная живопись! Перед тобой гениальная примитивистка, таможенник Руссо от литературы!»
Около года, не отлынивая, к нам исправно приходил литературный критик, добродушный и смешливый человечек в очках: мягкий и обходительный в беседе, он с клавиатурой в руках становился огнедышащим драконом, в просторном желудке которого плавятся даже кольца всевластья. На хвосте злодей всегда приносил стайку крылатых змеенышей поменьше – из тех певчих, что радостно подхватывают и никогда не запевают. Вместе с многоголосым Горынычем являлся обычно литературовед, такой же маленький и круглый, в таких же точно очках, всю жизнь посвятивший доказательству того, что роман как жанр умер.
Эта плеяда талантов покажется кому-нибудь сборищем неудачников, коллекцией недоразумений судьбы. И правильно покажется. Символично, что Бип включил туда и меня – именно тогда, когда я начала писать свой роман. Он знал об этом, кое-что читал и говорил, качая головой, что ни слова в написанном не понимает.
– Люди разучились внятно излагать свои мысли. Ботаники – последняя наша надежда. Ты только послушай, – говорил он, зачитывая из Википедии. – «Персик, персиковое дерево – растение из семейства розовые, подрода миндаль. Весьма близко к миндалевому дереву, от которого отличается только плодами. Дерево с ланцетными, пильчатыми (каково!) листьями и почти сидячими, появляющимися до развития листьев, розовыми цветами. Плод, персик, шаровидный, с бороздкой на одной стороне, обыкновенно бархатистый. Косточка морщинисто бороздчатая и с точечными ямочками». С ямочками, ты слышала? Нет, я больше не могу, слезы наворачиваются. Вот что я называю прозой, точечные ямочки, пильчатые листья – гениально! Словно возлюбленную свою описывает! Вот где нужно искать Шекспиров с Петрарками! Учись у ботаников, несмышленое дитя!
Дитя самонадеянно отвечало, что оно как раз у ботаников и учится. Бип поднимал очи горе и отправлял несмышленыша в лакейскую, встречать гостей.
И гости действительно начинали подтягиваться. Было жарко, весело, охали двери, вздрагивали окна, за которыми ночь чертила черными чернилами чертеж. Бежали по сумрачным дорожкам тени, мигали за воротами желтые такси. Смешливые дамы торопливо роняли лягушачьи шкурки к моим ногам и с напускной небрежностью вплывали в накаленный говором и куревом зал. Бип шумно здоровался со всеми, сверкал улыбкой, отпускал шуточки, смешивал коктейли, толок лед, лукаво приговаривая «Тех-ни-ка у-бий-ства» и казался безоглядно счастливым. «Красота!», «Какой фемале торсо! Чудо, не правда ли?», «Давайте выпьем!», «Музицирование, жонглирование, актерство и загадывание загадок!». Не умолкая ни на минуту, он баюкал новорожденные смеси в стеклянных люльках, одновременно целуя руку Улялюм и демонстрируя складной ножик Ижаку. Но иногда он замолкал, погружался в свои мысли, выпадая из времени, где все мы находились, или шарил взглядом в пестрой толпе и, не найдя того, что искал, возвращался к шуткам и коктейлям.
У барной стойки великий комбинатор был не один. Неразлучная парочка – Бип с Левой («Я и моя Дылда» – говорил маленький тиран) – задавала тон «заседанию», разыгрывая перед публикой уморительные скетчи. Это могли быть ковбои, Лир с шутом, старик со старухой у разбитого корыта, Холмс и Ватсон, Питер Пен со своей тенью, двое свирепых самураев и даже дама с собачкой. Чудо-бармены травили байки, пикировались, устраивали дуэль, с одинаковой ловкостью жонглируя шейкерами и шестизарядками.
Пить должны были все, хоть многие и побаивались. Содержимое шейкера часто имело сногсшибательный эффект – в том смысле, что сшибало с ног не хуже любой шестизарядки. Новичкам преподносили особое пойло (пробный камень нашего клуба) – насмерть разящую смесь осадков из пяти-шести бутылок, специально для этого припасенных. Названий у смеси было так же много, как и ингредиентов. Самые известные из них: «Дрожь», «Огонь, вода и медные трубы», «Семь кругов ада». Чаще всего, испив яду, жертва отключалась на весь вечер. Были, конечно, и исключения, и что самое смешное – я среди них. Помню, как после экзекуции позеленела, но выжила, чем небывало возвысила себя в глазах маленького чудовища. Хорошо, что он не видел, как, проболтавшись у стойки после смертельной дозы еще минут пять, я под шумок выскользнула в туалет, где меня скрутило и вывернуло, как в центрифуге.
Счастливчики, преодолевшие семь кругов ада, могли наслаждаться горючими смесями попикантнее. Фантазия Бипа не знала удержу, и полки, заставленные разномастными бутылками, служили отнюдь не эстетическим целям. В ход шло все, что только попадалось под руку, – водка, ром, коньяк, джин, всевозможные соки, сиропы и специи, до которых он был особенный охотник.
Прекрасно помню это ощущение: вечер начинается. Подлетает, наскакивает, как ребенок, разгоряченный игрой, спешит, к вам, мимо вас, быстрее, быстрее, и теряется за деревьями. Я сижу в углу возле лампы, сижу как всегда, несмотря на тридцать восемь и пять. Щеки мои горят, мы с лампой одного цвета. Я играю с освещением, сдергиваю один за другим тонкие платки, набрасываю новые. Сегодня последний день бабьего лета, и все будет золотистым, махровым, мягким, как переспевшая груша, решаю я. Бип в ударе: коктейли сегодня полосатые, каждый слой, как желе, застыл на своем уровне. Гости потягивают из бокалов, слой за слоем, мяту за янтарем, солнце за тенью. Платья шелестят, точно осыпаются, поскрипывают тугие смокинги. Ставни закрыты, шторы опущены. В приятном ознобе от вечера, я принимаю бокал из рук проворного Бипа (он единственный, кто умеет меня искать и, главное, – находить). Полосы моего снадобья не такие, как у всех, здесь больше винного и яблочного. Я делаю глоток, еще и еще. Комната наполняется хмелем, старым золотом, становится ярче. В центре, на одноногом столике высится пирамида из персиков с большим красным яблоком на вершине. У подножия пирамиды, опоясывая ее, разложены ее уменьшенные копии из слив с виноградиной на макушке. Если смотреть сверху, кажется, что пирамиды, подталкивая друг друга, как колесики в часовом механизме, вращаются. Вокруг стола вьется непрерывный поток спин: алебастровых женских, черных и лоснящихся – мужских. Из-за коктейля, освещения, легкого шума (не забудем также про тридцать восемь и пять) все немного плывет, смазывается, алебастр сливается с чернотой, золото тускнеет, проходит сквозь тьму и, незамутненное, рождается вновь. Золото и чернота, питье в бокалах, звуки и запахи – полосами, слоями. Закрываю глаза. Под ними – воспаленное тепло, тоже полосами.