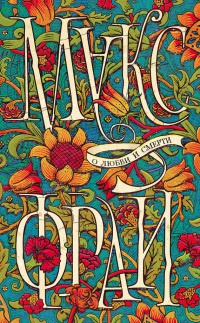Книга Песни сирены - Вениамин Агеев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во-первых, потому что никакой «Америки» он для неё не открыл, во-вторых – хоть это и казалось ему неоправданным и даже странным, – мать продолжала любить отца и была ему по-настоящему преданна. Наконец, существовал дополнительный фактор – не настолько важный, как два первых, но достаточно актуальный. Ей тогда уже исполнилось тридцать семь, а Борис Иванович ходил ещё в «молодых специалистах», ему было то ли двадцать пять, то ли двадцать шесть лет от роду. Поэтому для моей матери вся эта странная затея с полуистерическим объяснением и лихорадочным излиянием чувств выглядела как необъяснимый каприз взбалмошного мальчишки, из-за буйства в крови и незрелых фантазий вообразившего, что он влюблён в женщину много старше себя. Правда, это же послужило для незадачливого воздыхателя и смягчающим обстоятельством – обычно мать не прощала тех, кто говорил что-либо дурное об отце, а обличения были преподнесены Григорьевским в крайне резком и даже неприязненном тоне. То, что Борис Иванович не ограничился лишь одним объяснением в любви, а упрямо предлагал матери выйти за него замуж, причём вкупе с заверениями о готовности к моему усыновлению, только усугубило эффект – ведь ясно же, что человек, находящийся в здравом уме, не станет так себя вести. В результате мать не придумала ничего умнее, чем опереточный вариант, уже столько раз осмеянный и обыгранный – она предложила Боре «быть друзьями». Что на самом деле под этим подразумевалось и насколько серьёзно воспринимал подобную формулу Григорьевский, я не знаю. Что же касается матери, то она, как видно, не на шутку увлеклась ролью наставницы юного пажа, раз уж связь подопечного с не безукоризненно нравственной супругой «Вэ в кубе» привела её в столь бешеное негодование. Известно, что Борис Иванович принял предложенную ему «дружбу» неохотно и с оговоркой, что сделанное им предложение не теряет силы – он, конечно, не был готов опрометчиво брать на себя обет целомудрия в ситуации, где нет никаких гарантий, но уж холостяком собирался оставаться неопределённо долго – до тех самых пор, пока мать не согласится выйти за него замуж. Намеренно или нет, но Григорьевский и в самом деле продолжал держать данное слово – даже в период охлаждения, наступивший после ссоры на море. В том факте, что над матерью всё это время дамокловым мечом нависала потенциальная угроза обрести в лице Бориса нового мужа, можно найти своеобразную иронию. Смерть моего отца, вероятно, означала для Григорьевского долгожданное освобождение матери и пробуждение новых надежд – а тут на сцене вдруг появляется не учтённый им в качестве возможного конкурента шалопай Лёнечка со своими мечтательными зелёными глазами! Сказать, что Борис Иванович и на этот раз сделал матери предложение, было бы технически неверной формулировкой, раз уж он перед этим навсегда оставил своё предложение в силе. Тут дело обстояло скорее наоборот. Он заявил маме, что «устал ждать и терзаться» и теперь намерен навсегда уехать из нашего города, если они прямо сейчас, без малейшего промедления, не поженятся. Конечно, в свете трезвых рассуждений история нового сватовства могла прозвучать достаточно дико и даже забавно, но всё же не следует забывать, что за фасадом несколько театрального действия находились реальные человеческие судьбы, притом в трагических обстоятельствах. Думаю, что мама отнеслась к перспективам нового замужества вполне серьёзно, хотя и не без сомнений. Только этим можно объяснить то, что она настойчиво искала совета – сначала у своих тогдашних «подруг», точнее, у жён отцовских друзей, а потом и у меня – всё это было для неё крайне нехарактерно. Между прочим, несмотря на то, что все четыре подруги единодушно отговаривали мать от скорого замужества, лишь жена «Вэ в кубе» Людмила привела в качестве возражений конкретные соображения личностного характера, а не просто выставила претензии по поводу предосудительного нарушения условностей. Впрочем, все четверо были уверены, что мать и так уже давным-давно спит с Борисом, а нелепая спешка из-за штампика в загсе не могла не вызывать у них ничего, кроме недоумения. Мама, конечно, отметила эту деталь, но вносить поправки не стала – да ей бы никто и не поверил. Что касается аргументов Людмилы, то они, принимая во внимание предысторию с лагерным происшествием, могли быть продиктованы личной заинтересованностью. Процесс опроса мнений шёл в соответствии с лучшими традициями великих полководцев, то есть начиная с самого нижнего чина и дальше по возрастанию, но так и не внёс никакой определённости, пока очередь не дошла до меня как второго по значимости лица в иерархической структуре. Я же был настолько ошарашен и испуган перспективой приобретения в лице Бориса Ивановича «второго отца», как он охарактеризовал наши с ним предполагаемые взаимоотношения, что, сам того не ведая, подписал сватовству смертный приговор. Тогдашний разговор с матерью я помню достаточно хорошо, чтобы утверждать, что моя категоричность не была непримиримой верностью отцу и осуждением её «предательства», как это часто бывает с детьми в подобных ситуациях. Будь на месте Бориса Ивановича кто-то другой – тот же Лёнечка или хотя бы «Вэ в кубе», не исключено, что моя реакция была бы более благосклонной. В тот же день, во время очередного визита Григорьевского, мама объявила ему об окончательном отказе, причём сделала это не самым утончённым способом – пожалуй, даже трусливо и неискренне. Суть маминой маленькой, но небезобидной лжи заключалась в том, что без моего одобрения она якобы не имела морального права принять решение. Ну а я как будто в самой категоричной форме высказался против ее замужества, хотя это ни в коей мере не отражало действительного содержания моих слов. Говоря без обиняков, мать без всякой на то необходимости сделала меня ответственным за свой отказ Григорьевскому. Возможно, ей было проще представить логику своих поступков именно в таком свете, но Борис Иванович так никогда и не простил мне предполагаемого вмешательства.
Как и следовало ожидать, теперь, после брошенной им угрозы, Григорьевский вынужден был ретироваться, чтобы не ставить себя в смешное положение. Именно так он и поступил, правда, никуда не уехав. Изредка я натыкался на него где-нибудь в центре, впрочем, не чаще чем раз или два в год – мы здоровались, иногда вежливо обменивались несколькими словами. Но к нам домой он с тех пор больше не заходил. Мать впоследствии говорила, что не видела его несколько лет, что достаточно необычно для людей, живущих в таком городе, как наш, – не очень крупном районном центре. Но и она, конечно, была в курсе, что Борис Иванович никуда не завербовался, не исчез и всё это время даже работал на том же самом месте и чуть ли не в той же должности, что и раньше. Что касается Корнеева, то он отныне получил безоговорочный приоритет, хотя никаких дополнительных усилий для этого и не прилагал. Даже его посещения не стали чаще – видимо, будучи женатым, он достиг своего максимума ещё в период сватовства Бориса Ивановича. Довольно долго ничего особенного не происходило, хотя, как я думаю, Лёнечка всегда нравился матери – просто в ту пору его семейное положение ещё вызывало у неё сомнения. Приходя, Корнеев с неизменной кроткой улыбкой всё так же молча и восторженно таращился на мать своими мечтательными зелёными глазами из старого кресла в углу, но, судя по некоторым косвенным признакам, тактика пассивного ожидания со временем оказалась более продуктивной для пробуждения нежных чувств, чем предложения руки и сердца, – во всяком случае, для Лёнечки. В какой-то момент, прошедший для меня незамеченным, мать стала его любовницей, а уже чуть ли не годом позже, но так же буднично и я наконец догадался о характере их отношений. Причём это произошло на абсолютно пустом месте, то есть я не заставал их в постели или хотя бы целующимися – просто понял и всё. Это уж когда-то потом, в старших классах школы, я раза два приходил не совсем вовремя, а вообще-то мать с Лёнечкой ухитрялись вести интимную жизнь крайне незаметно – благо они работали вместе, в их уроках было достаточно «окон», а школа находилась в двух кварталах от нашей квартиры. Так же рутинно прошло ещё несколько лет, пока, уже во время моего обучения на первом курсе института, мать не порвала с Лёнечкой из-за одной скандальной и нелепой истории.