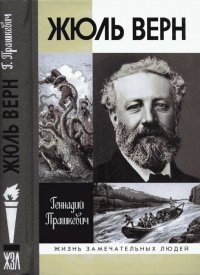Книга Станислав Лем - Геннадий Прашкевич
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я спрыгнул на… “землю”. То, что я сначала принял за стену, было огромной, дырявой, как решето, тонкой, как плёнка, костной плитой, стоявшей на боку и проросшей напоминающими маленькие галереи утолщениями. Щель шириной в несколько метров делила наискось всю эту многоэтажную плоскость, раскрывая глубокую перспективу. Та же перспектива видна была сквозь большие, беспорядочно разбросанные отверстия. Я вскарабкался на ближайший выступ стены, отметив, что подошвы скафандра необыкновенно устойчивы, а сам скафандр нисколько не мешает передвигаться. Очутившись на высоте примерно пяти этажей над Океаном, я повернулся лицом к странному скелетоподобному пейзажу и только теперь рассмотрел его.
Мимоид был удивительно похож на древний полуразрушенный город, на какое-то экзотическое марокканское поселение, много веков назад пострадавшее при чудовищном землетрясении или другом катаклизме. Я отчётливо видел извилистые, наполовину засыпанные и загромождённые обломками улочки, круто спускавшиеся к берегу, омываемому пенистой гущей, выше вздымались уцелевшие зубцы стен, бастионы, их округлые основания, а в выпуклостях и впадинах стен чернели отверстия наподобие разрушенных окон или крепостных бойниц. Весь этот город-остров, тяжело накренившись, как полузатопленный корабль, бессмысленно, бессознательно двигался вперёд, медленно поворачиваясь, тени лениво ползали по закоулкам развалин, иногда сквозь них пробивался солнечный луч, падая на то место, где я стоял.
С немалым риском я вскарабкался ещё выше, с выступов над моей головой посыпался мелкий сор. Падая, он заполнил клубами пыли извилистые ущелья и улочки. Мимоид, конечно, не скала, сходство с известняком исчезает, если взять осколок в руку: материал гораздо легче пемзы, у него мелкоячеистое строение; поэтому он необыкновенно воздушен.
Я поднялся так высоко, что невольно стал ощущать движения мимоида.
Он не только плыл вперёд под ударами чёрных мускулов Океана, неизвестно откуда и неведомо куда, но ещё и наклонялся то в одну, то в другую сторону, и каждый такой крен сопровождался протяжным чмоканьем бурой и жёлтой пены, стекавшей с обнажавшегося бока. Это колебательное движение было придано мимоиду очень давно, вероятно, при его рождении, он сохранил его благодаря своей огромной массе. Осмотрев с высоты всё, что мог, я осторожно спустился вниз и только тогда понял, что мимоид, оказывается, меня нисколько не интересует и что я прилетел сюда, чтобы встретиться не с ним, а с Океаном.
Я сел на твёрдую потрескавшуюся поверхность в нескольких шагах от геликоптера.
Чёрная волна тяжело вползла на берег, расплющиваясь и теряя цвет. Когда она отступила, на кромке остались дрожащие нити слизи. Я подвинулся ближе и протянул руку к следующей волне. Тогда она очень точно повторила то, с чем люди впервые столкнулись почти сто лет назад: задержалась, чуть отступила, окружила мою руку, не касаясь её, так что между рукавицей скафандра и внутренностью углубления, сразу ставшего из жидкого почти мясистым, остался тонкий слой воздуха. Я медленно поднял руку; волна, а точнее, её узкий отросток пошёл за ней вверх, продолжая окружать мою кисть постепенно светлевшим грязновато-зелёным слоем. Я встал, чтобы ещё выше поднять руку. Прожилка студенистого вещества натянулась, как дрожащая струна, но не порвалась. Основание совершенно расплющившейся волны, как странное, терпеливое существо, прильнуло к берегу у моих ног. Из Океана будто вырос тягучий цветок, чашечка которого окружила мои пальцы, став их верным негативом, но не коснулась их. Я попятился. Стебель задрожал и неохотно вернулся вниз, эластичный, колеблющийся, неуверенный. Волна поднялась, втянула его в себя и исчезла за кромкой берега. Я повторял эту странную игру до тех пор, пока опять, как сто лет назад, одна из очередных волн не отхлынула равнодушно, словно насытившись новыми впечатлениями. Я знал, что мне пришлось бы ждать долго, пока вновь проснётся её “любопытство”.
Внешне спокойный, я чего-то безотчётно ждал.
Чего? Её возвращения? Как я мог?
Каждый из нас знает, что представляет собой материальное существо, подвластное законам физиологии и физики, и что сила всех наших чувств, разом взятых, не может противостоять этим законам, а может их только ненавидеть. Извечная вера влюблённых и поэтов во всемогущество любви, побеждающей смерть, преследующие нас слова “любовь сильнее смерти” — ложь. Правда, такая ложь не смешна, она просто бессмысленна. А вот быть часами, отсчитывающими течение времени, то разбираемыми, то собираемыми снова, в механизме которых, едва конструктор тронет маятник, поднимается отчаяние и любовь, знать, что ты всего лишь репетир мук, усиливающихся тем более, чем смешнее они становятся от их многократности? Повторять человеческое существование, но повторять его, как пьяница повторяет избитую мелодию, бросая всё новые и новые медяки в музыкальный ящик? Я ни на одну секунду не верил, что жидкий гигант, который уготовил в себе смерть сотням людей, к которому десятки лет вся моя раса безуспешно пыталась протянуть хотя бы ниточку понимания, что он, несущий меня бессознательно, как пылинку, будет взволнован трагедией двух людей. Его действия преследовали какую-то цель? Возможно, но и в этом я не был сейчас абсолютно уверен, только знал, что уйти — это зачеркнуть ту, пусть ничтожную, пусть существующую лишь в воображении возможность, которую несёт в себе будущее. Так что же — годы среди мебели и вещей, которых мы вместе касались, в воздухе, ещё хранящем её дыхание? Во имя чего? Во имя надежды на её возвращение? Надежды не было. Но во мне жило ожидание — последнее, что мне осталось. Какие свершения, насмешки, муки мне ещё предстояли? Я ничего не знал, но по-прежнему верил, что ещё не кончилось время жестоких чудес».
О романе «Солярис» написано огромное количество статей.
Как любая неординарная работа, роман находил и восторженных поклонников, и ядовитых критиков, — попытки осмыслить и переосмыслить основные проблемы романа не прекращаются до сих пор.
В СССР первый отклик на роман оказался отрицательным.
В десятом номере журнала «Сибирские огни» за 1963 год критик Э. Зиннер опубликовал рецензию под названием «Маленькие люди в большом космосе». Наверное, полезно привести пару выдержек из этой рецензии.
«И, наконец, появляется первый живой обитатель спутника — Снаут. Маленький изнурённый человек с лицом, обожжённым солнцем. Кожа клочьями висит у него с носа и щёк. Читатель немного удивлён: он как-то иначе представлял себе внешность завоевателей космоса, он помнит фотографии Титова, Гагарина, и нарисованный Лемом портрет Снаута вызывает некоторое недоумение…»
И дальше: «В мире огромных катаклизмов, кричащих красок, невиданных очертаний мелькают крошечные фигурки ничтожных людей, охваченных паническим страхом, парализованных ощущением своего полного бессилия, фигурки людей, сошедших как будто только что со страниц ультрамодернистского “психологического” романа. Не верится, что эти ущербные люди могли создать удивительно умные и красивомощные машины и механизмы, могли проникнуть далеко во вселенную. Им ли управлять вселенной?»
В журнале «Молодой коммунист» Ю. Котляр тоже не преминул ущипнуть Лема: