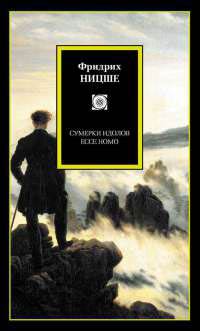Книга Золотой человек - Мор Йокаи
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тимея в изумлении наблюдала эту сцену; речи она не понимала, а сопровождающие ее жесты и смену выражений лица истолковать была бессильна.
Приемный отец целует - обнимает ее, сироту, а в следующую минуту отстраняет от себя, вновь заключает в свои объятия и снова отталкивает. А как кричат наперебой эти двое на человека, который с таким спокойствие выстоял против смертельной опасности и бури, и стоило ему произнести всего лишь несколько слов, да и те ровным, бесстрастным тоном, как оба враз стихают, пасуя перед ним, как пасовали омуты, острые скалы и вооруженные солдаты.
Из всего, что тут говорят, она, Тимея, ни слова не понимает. А человек, кто последние месяцы был ей верным хранителем, кто ради нее трижды измерил водные глубины, единственный, кто говорит с ней на ее родном языке, сейчас уйдет насовсем, и она больше даже голоса его не услышит.
Но ей довелось еще раз его услышать.
Прежде чем переступить порог комнаты, Тимар обернулся и сказал Тимее по-гречески:
- Барышня Тимея, вот еще ваша собственность.
С этими словами он вытащил из кармана плаща коробку сладостней.
Тимея подбежала к нему и, взяв коробку, поспешила к Атали, с приветливой улыбкой протягивая ей гостинец, привезенный для нее из далекой страны.
Атали открыла коробку и презрительно фыркнула:
- Фи, как противно пахнет розовой водой! Точь-в-точь как от служанок, когда они по воскресеньям в церковь собираются.
Слов Тимея не поняла, зато брезгливую гримасу уразумела и очень расстроилась. Она попыталась было угостить турецким лакомством госпожу Зофию, но та сослалась на больные зубы, ей, мол, нельзя есть сладости. Тогда, вконец расстроенная, она угостила лейтенанта. Тот пришел в восторг, один за другим отправил в рот три засахаренных ломтика, и Тимея, глядя ему в глаза, улыбалась благодарной улыбкой.
Тимар же стоял в дверях и смотрел, как улыбается Тимея.
Затем Тимея сообразила, что надо бы и Тимара угостить турецкими сладостями. Но Тимар уже ушел.
Вскоре старший лейтенант тоже откланялся.
Будучи человеком воспитанным и учтивым, он поклонился и Тимее, что было ей очень приятно.
Вскорости воротился господин Бразович, и в комнате теперь были все свои.
Между господином Бразовичем и госпожой Зофией закипела свара; обменивались любезностями они вроде бы по-гречески, и Тимее иногда удавалось разобрать отдельные слова, но в целом речь их казалась ей более чуждой и непонятной, чем те языки, в которых она не понимала ни слова.
А разговор меж супругами шел о том, как поступить с этой свалившейся на их голову девчонкой. Все ее наследство -двенадцать тысяч форинтов золотом, ну и та малость, что удастся выручить за намокшее зерно. Этой суммы недостаточно для того, чтобы воспитать из нее такую барышню, как Атали. Госпожа Зофия полагала, что следует ее приучить к работе по дому: к кухне, к уборке, стирке-глажке, - такое умение ей в жизни пригодится. Все одно при таком убогом приданом ей не составить лучшей партии, чем какой-нибудь писарь или судовой комиссар, а для него куда лучше, если жена воспитана как служанка. Однако господин Бразович на эти уговоры не поддавался: что скажут люди? Наконец они избрали золотую середину: в глазах света выставлять Тимею не прислугой, а приемной дочерью. Есть она будет вместе с ними, но и прислуживать за столом тоже станет. К корыту ее не поставишь, зато стирать свои платья и тонкое белое белье Атали - ей вполне по силам. И шить пусть учится, только не в людской будет сидеть, а на господской половине. И Атали она сможет помогать при туалете, это ей будет вроде забавы. Ночевать она станет не с прислугой, а в одной комнате с Атали. Дочке все равно нужна своя горничная. А в награду за это наряды, которые Атали уже надоели, перейдут Тимее. Девица с двенадцатью тысячами приданого должна возносить хвалу небесам за такую участь.
И Тимея была довольна своей участью.
После огромной, непостижимой ее уму катастрофы, выбросившей ее на чужую землю, она, подобно покинутому на произвол судьбы ребенку, льнула к каждому, с кем оказывалась рядом. Тимея была доверчива и услужлива, как и подобает юной турчанке.
Она была очень довольна, что за ужином ей разрешили сесть подле Атали, и ей не пришлось внушать ее обязанности: она сама вскакивала с места, чтобы поменять тарелки и столовые приборы, и делала это с охотою, с ласковой предупредительностью. Старалась не обидеть приютившую ее семью своим печальным видом, а между тем у нее было достаточно причин печалиться. В особенности же ей хотелось угодить Атали. Каждый взгляд ее выдавал искреннее восхищение, с каким обычно девочка-подросток взирает на расцветшую женскую красоту. Как любовалась она розовым лицом Атали, ее сверкающими глазами!
Девочки-подростки воображают, будто бы кто красив, тот непременно и добр.
Слова Атали она не понимала - та не говорила даже на таком греческом наречии, как ее родители, - но по жестам, по глазам пыталась угадать ее желания.
После ужина, за которым Тимея не ела почти ничего, кроме хлеба и фруктов - к жирной пище она не была приучена, - семейство перешло в гостиную, и Атали села к роялю музицировать. Тимея пристроилась подле нее на скамеечке для ног и благоговейно взирала снизу на проворные пальцы названой сестрицы.
Затем Атали показала ей портрет работы молодого офицера. Тимея пришла в такое восхищение, что даже всплеснула руками.
- Ты что, сроду такого не видела?
Вместо нее ответил господин Бразович.
- Где ей было видеть? Турецкая вера запрещает изображать чей бы то ни было облик. Ведь все нынешние смуты и волнения в Турции как раз и начались из-за того, что султан дозволил написать свой портрет и вывесить его в диване. По этой причине и бедняга Али Чорбаджи оказался замешанным в бунт, вот и пришлось ему уносить ноги. Да, наделал же ты глупостей, непутевый Али Чорбаджи!
Тимея при имени отца припала в благодарственном поцелуе к руке господина Бразовича, решив, что тот помянул усопшего добрым словом.
Затем Атали отправилась на покой, а Тимея со свечой шла впереди, освещая ей путь.
Атали присела у туалетного столика и, глядясь в зеркало, тяжко вздохнула; лицо ее помрачнело, устало расслабив члены, красавица откинулась в кресле. Ах, как хотелось Тимее знать, отчего омрачилось грустью это прекрасное лицо.
Она вынула гребень из волос Атали, ловкими пальцами распустила волосы, уложенные короной, и с наслаждением заплела на ночь густые каштановые пряди в косу. Заботливо вынула из ушей серьги, при этом ее лицо оказалось так близко от лица Атали, что та не могла не увидеть в зеркале эти два столь разные отражения: одно лицо розовое, блистательно неотразимое, другой лик - бледный, кроткий. И все же Атали досадливо вскочила с места, оттолкнув зеркало прочь: "Пора ложиться" - это белое лицо бросило тень на ее собственное отражение. Тимея аккуратно подобрала разбросанные Атали одежды и с врожденным изяществом аккуратно сложила.