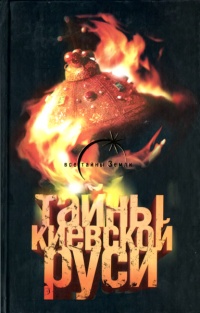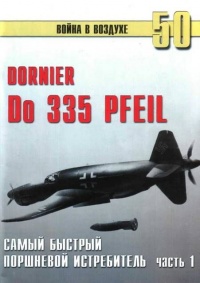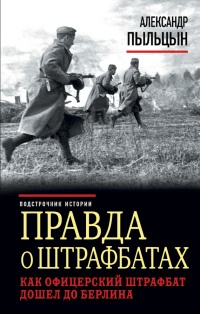Книга Зеркала прошедшего времени - Марта Меренберг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Нет, не понимаю… Ничего не понимаю…
Жорж закрыл глаза, почувствовав головокружение и подкатывающую тошноту, и резко поморщился, уткнувшись лицом в подушку.
– Простите меня, Жорж… Отдыхайте сейчас, – улыбнулся большой, высокий, лысоватый Брей. В его присутствии Дантес чувствовал себя спокойно и надежно, как никогда, сознавая, что этот добрый, замечательный человек спас ему жизнь, и горячая волна благодарности залила его сердце.
– Потом поговорим. Вам нужен покой.
– Отто… я вам так признателен… если бы не вы… А можно мне водички?..
Брей, загадочно улыбаясь, присел на корточки рядом с его кроватью, держа в руках стакан с водой.
– Вы все время звали барона Геккерна, Жорж… Вы бредили и звали его…
Дантес дернулся, поднеся руку к горлу, и молча зарылся лицом в подушку.
– Ладно, поспите… Если Эммочка еще вас потревожит – я ее… в угол поставлю!
И Брей, тихо рассмеявшись, ушел, прикрыв за собой дверь. Дантес впал в забытье, и ему приснилось, как будто он снова на балу в Царском Селе, вместе с Луи, и у него тоже были белые крылья…
– …Тише, тише, Луи, – он спит…
– Я вижу… Боже, как он исхудал… мой бедный мальчик…
– Побудешь с ним?
– Да…
– Я вас оставлю… Только помни – ему нужен покой. Да и тебе, друг мой, тоже волноваться вредно…
…Геккерн, улыбаясь, поставил в хрустальную вазу ярко-красные георгины и уселся в кресло у окна, не сводя счастливых глаз со спящего Жоржа. Его мальчик… его Жорж… Но как же он мог подумать такое о нем…
А ты тоже, старый идиот, – надо было ехать к нему сразу же, а не хвататься за сердце, как влюбленная барышня!
Да, сходил с ума от отчаяния и беспомощности… на свет белый смотреть не хотел… Страдал, видите ли – а каково ему было, ты подумал?
Господи, Жорж… я так люблю тебя. И я теперь – твой… гхм… отец.
Погрузившись в свои мысли, он не заметил, что Дантес открыл воспаленные, измученные, обметанные густой синевой глаза. Несколько секунд он молчал, кусая губы и борясь с неудержимо подступающими к горлу рыданиями, боясь пошевелиться и не в силах поверить своим глазам… Луи…
Голос Дантеса, с трудом повинуясь ему и предательски дрожа, сухо и неприязненно резанул тишину спальни, произнеся всего лишь одно слово:
– Убирайся.
– Жорж!..
– Не подходи ко мне. Я не желаю больше знать тебя. Зачем ты приехал?
Геккерн подошел к его постели и замер, вглядываясь в его заострившиеся черты. Господи, Жорж…
– Чтобы увидеть тебя. Чтобы быть с тобой.
Он присел рядом и дотронулся до руки Жоржа. Дантес резко отдернул руку, как будто его ошпарили кипятком, и отвернулся к стене, вцепившись зубами в край подушки.
– Я так соскучился по тебе… Я больше не могу без тебя… – Геккерну казалось, что он видит один из самых своих безумных ночных кошмаров, которые мучили его в Сульце – Жорж, отталкивающий его, стремительно убегающий прочь, не оборачиваясь, оставляющий после себя лишь черную, безликую, ничем не заполненную пустоту…
– Я же сказал тебе – убирайся к черту, Луи! – взорвался Дантес, резко садясь в постели. Дикая боль завертелась в голове множеством разноцветных иголок, готовых впиться в его мозг. – И забери свои цветы – я ненавижу эти чертовы георгины!
Господи, помоги мне… Уходи, Луи, я не вынесу этого… Не мучай меня – прошу…
– Хорошо. Я уйду, Жорж. Только сначала ответь мне, умоляю… всего лишь на один вопрос. И повернись ко мне – слышишь? Я хочу видеть твои глаза! – Его голос, дрогнув, сорвался на крик, и Жорж с усилием повернул голову, впившись глазами в любимое, незабытое, такое несчастное и измученное лицо Геккерна. – Как ты мог поверить Бенкендорфу? Ему, значит, можно слепо и безоговорочно доверять, каждому его слову, а мне ты больше не веришь? Что же я сделал такого – или, может быть, наоборот, чего-то не сделал для тебя, что должен был… И теперь меня можно просто растоптать и выкинуть из своей жизни, как ненужную вещь? Я все время думал о тебе…
– Ты лжешь! Ты работаешь на Третье отделение. Вербуешь новых осведомителей! А за Бреем ты тоже шпионишь? – выкрикнул Дантес. Его лицо побелело, зрачки расширились, и он уже почти кричал ему в лицо, вцепившись руками в край одеяла. – Он мне жизнь спас! Ты сломал, а он – спас! Ты – мерзавец, Луи, потому что в этой жизни ты думаешь только о собственной шкуре и не привык больше ни о ком думать! «Ах, Жорж, как я одинок!» Плевать я хотел на тебя, и на твое одиночество, и на то, как ты стелешься перед Бенкендорфом! Может, ты с ним тоже…
Увесистая пощечина заставила его немедленно замолчать, и Жорж, всхлипнув, схватился за щеку и уткнулся пылающим лицом в подушку. Его била крупная дрожь, и он в отчаянии прикусил губу, из последних сил стараясь не разрыдаться.
Ты упрямый сукин сын, Дантес, – он сейчас уйдет, теперь уже навсегда, и ты больше никогда не увидишь его… Он не простит тебя… Что ты наделал… больной придурок…
Он услышал, как хлопнула дверь, и долго сдерживаемые слезы хлынули наконец из его глаз.
Ах, где же Вы, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Капризный, как дитя, как песенка без слов?
Такой беспомощный, как дикий одуванчик,
Такой изысканный, изящный и простой,
Как пуст без Вас мой старый балаганчик,
Как бледен Ваш Пьеро, как плачет он порой!
Куда же Вы ушли, мой маленький креольчик,
Мой смуглый принц с Антильских островов,
Мой маленький китайский колокольчик,
Капризный, как дитя, как песенка без слов?..
А. Вертинский
Чарующий, переливчатый звон колоколов плыл над красной, желтой, оранжевой и уже скатывающейся в сухие, шуршащие коконы листвой, поднимаясь все выше и выше к холодному серому небу, соперничая в вибрирующей, острой, звонкой высоте тона с Адмиралтейской иглой и явно гордясь своим божественным происхождением. Ветер гнал опавшие и взметающиеся вверх листья под ноги прохожим и под колеса экипажей, и стаи птиц, потянувшиеся к югу, клином разрезали холодную высоту серых петербургских небес, напоминая строчки написанного небрежным почерком письма, в котором случайно забыли поставить точку.
Двери нарядной церкви широко распахнулись, и оживленные, уже без натянутой торжественности на лицах гости потянулись к выходу, поздравляя новобрачных, смущенно и растерянно-державшихся за руки. Фата юной невесты взметалась от ветра, как нежное кисейное облако; тонкие контуры ее тела тонули в море шуршащих белопенных кружев и расшитого серебром атласного корсажа, а лица и вовсе не было видно, потому что она спрятала его – то ли от ветра, то ли от застенчивости – в огромный букет чайных роз, трепетавших и готовых разлететься сотней белых бабочек-лепестков под пронизывающими порывами осеннего ветра.