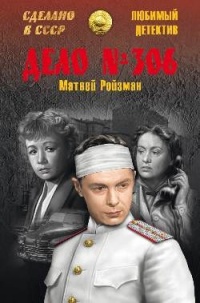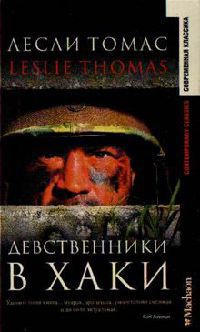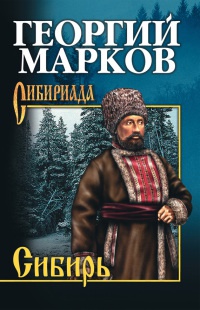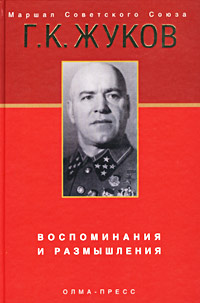Книга Гепард - Джузеппе Томази ди Лампедуза
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Несправедливо было бы умолчать о том, что ставшие почти регулярными встречи с князем оказали определенное влияние и на самого Седару. Прежде общаться с аристократами ему приходилось либо по делам (они продавали — он покупал), либо на торжественных приемах, куда его приглашали редко и после долгих колебаний. В обоих случаях представители данного сословия проявляли себя не с самой лучшей стороны. В результате подобного общения дон Калоджеро пришел к убеждению, что аристократ — это овца, безропотно позволяющая ему, Седаре, состригать с нее дорогостоящее руно и даже готовая дать его дочери свое имя, пользующееся необъяснимым уважением.
Но, познакомившись с Танкреди вскоре после высадки гарибальдийцев, он неожиданно для себя открыл, что молодой человек благородных кровей может быть не менее расчетливым и хладнокровным, чем он сам, способным выменять на свои обворожительные улыбки и высокие титулы женскую красоту и чужое состояние; при этом чисто «седаровские методы» он облекал в изящную форму и использовал с таким обаянием, которое самому Седаре и не снилось. Не отдавая себе в этом отчета, он даже на себе ощущал воздействие обаяния Танкреди, хотя объяснить, в чем оно заключается, он бы не смог. Когда он познакомился ближе с доном Фабрицио, то поначалу и в нем обнаружил вялость и неспособность к самозащите, свойственные, по его представлениям, всей овечьей породе аристократов, но князь при этом обладал еще и огромной притягательной силой — иного характера, чем у молодого Фальконери, но столь же неотразимой. Еще дон Калоджеро открыл, что энергия князя направлена не на конкретные цели, не на стремление отнять что-то у других, а внутрь себя самого, на поиски жизненных смыслов. Он был поражен этим, хотя отвлеченные устремления князя представлял себе весьма туманно и не мог облечь их в словесную форму, что пытаемся здесь сделать мы. Разгадывая секрет обаяния двух этих аристократов, дон Калоджеро подумал, что не последнюю роль тут играют хорошие манеры, и сделал вывод: чем человек воспитанней, тем он приятней, потому что своим безупречным поведением способен в конечном счете свести на нет проявления многих неблаговидных человеческих свойств и подать пример выгодного альтруизма (формула, в которой эффективность прилагательного позволяла ему примириться с бесполезностью существительного). Мало-помалу дон Калоджеро начинал осознавать, что званый обед совсем не обязательно должен сопровождаться жадным чавканьем за столом и посаженными на скатерть жирными пятнами, что разговор может и не походить на собачью свару; что уступка женщине — проявление силы, а не слабости, как он думал раньше; что от собеседника можно большего добиться, если вместо «ни черта ты не понимаешь» сказать «возможно, я неясно выразился»; и что если умело пользоваться подобными приемами, от еды, женщин, доводов и собеседников проку будет куда больше.
Было бы опрометчиво утверждать, будто дон Калоджеро сразу же применил на практике обретенные знания, но он стал чаще бриться и реже возмущаться расходом мыла при стирке белья, тем дело, правда, и ограничилось; и все же именно с тех пор он и ему подобные начали постепенно меняться, освобождаться от дурных манер, чтобы через три поколения превратиться из расторопных мужланов в беспомощных аристократов.
Первое посещение Анджеликой семейства Салина в качестве невесты прошло безупречно, словно было тщательно отрепетировано. Девушка держалась настолько хорошо, что за каждым ее жестом, за каждым словом угадывалась рука режиссера. Но поскольку отсутствие в те времена быстрых средств связи вынуждало признать такое предположение несостоятельным, оставалось поверить в гипотезу, что Танкреди подготовил этот визит заблаговременно, еще до официального объявления о помолвке. Тем, кто держал князя Фальконери за человека предусмотрительного, такая гипотеза могла бы показаться смелой, но никак не абсурдной.
Анджелика появилась в шесть часов вечера в бело-розовом платье. Шелковистые, заплетенные в косы черные волосы прикрывала летняя, не по сезону, соломенная шляпа с украшением в виде виноградных гроздьев и золотистых колосьев, скромно намекавших на виноградники Джибильдольче и хлебные поля Сеттесоли. Опередив отца, Анджелика легко взбежала по ступеням высокой лестницы и бросилась в объятья дона Фабрицио. Она запечатлела на его бакенбардах два поцелуя, которые тут же были ей возвращены с особым удовольствием, причем губы князя чуть дольше положенного задержались на молодых щечках, от которых исходил аромат гардении. Анджелика покраснела и отступила на полшага.
— Я счастлива, я так счастлива, — она снова приблизилась и, поднявшись на цыпочки, выдохнула ему в ухо: — дядище!
Этот порыв искренности и доверительной секретности был счастливой режиссерской находкой, сравнимой по своему эффекту разве что с детской коляской Эйзенштейна: он привел в восторг чистое сердце князя, теперь уже окончательно покоренное невестой племянника.
Дон Калоджеро тем временем одолел лестницу и сообщил, как переживает жена, что не смогла прийти: вчера вечером она оступилась, у нее растяжение связок на левой ноге, очень болезненное.
— Представляете, князь, щиколотка у нее раздулась, как баклажан.
Дона Фабрицио развеселило столь изящное сравнение, и он выразил желание немедленно пойти и навестить супругу дона Калоджеро, уверенный, благодаря открытой ему доном Чиччо тайне, что проявленная им вежливость не будет иметь опасных для него последствий. Предложение смутило дона Калоджеро, и ему, чтобы удержать князя, пришлось наградить супругу дополнительным недомоганием, на этот раз мигренью, из-за которой бедняжке больно смотреть на свет, и она вынуждена сидеть в темноте.
Князь подал руку Анджелике, и они, едва угадывая дорогу в тусклом свете масляных ламп, пошли через анфиладу сумрачных гостиных, в конце которых сияла огнями Леопольдова зала, где собралась в ожидании вся семья. Их торжественный путь из темноты к свету, к семейному очагу напоминал своей торжественностью церемонию посвящения в масонское братство.
Все столпились у дверей. Княгиня, сдавшаяся под гневным натиском мужа, который не просто отверг все ее возражения, но камня на камне от них не оставил, расцеловала свою будущую красавицу племяницу и так крепко прижала к себе, что на коже девушки отпечатался контур фамильного рубинового ожерелья, надетого, несмотря на неурочный час, Марией-Стеллой по случаю столь счастливого события. Шестнадцатилетний Франческо Паоло, обрадовавшись, что ему выпала такая редкая удача, тоже поцеловал Анджелику под полным бессильной ревности взглядом отца. Особенно сердечно невесту встретила Кончетта: она была настолько растрогана, что не смогла сдержать слез; ее сестры, окружив Анджелику, выражали свою радость шумным весельем. Падре Пирроне не был бесчувствен к женским чарам, хотя, как человек благочестивый, предпочитал считать их неопровержимым доказательством милости Божьей, но все его обоснования растаяли в лучах сияющей грации (с маленькой буквы).
— Veni, sponsa de Libano…[52]— пробормотал он, с трудом удерживаясь, чтобы не процитировать другие, более пылкие библейские строки.